«Современную поэзию едва ли можно называть лирикой»
21 июля 2019 ● "Горький"
Интервью с литературоведом Ильей Кукулиным.
Фото: Мария Майофис
Почему современная поэзия конструирует человеческую индивидуальность и в то же время стирает ее, может ли культурная эволюция состоять из разрывов и как война в советской литературе стала метафорой любого экзистенциального опыта? В издательстве «Кабинетный ученый» вышла книга «Прорыв к невозможной связи: статьи о русской поэзии» литературоведа Ильи Кукулина — по просьбе «Горького» с ним поговорила Мария Нестеренко.
В предисловии к книге вы пишете, что в 1990-е годы, вопреки моде на интертекстуальность, старались использовать социологические методы. Какие именно?
Речь идет скорее о второй половине 1990-х. До этого я довольно долго воспринимал интертекстуальный метод как последнее слово филологической науки и очень серьезно относился к поиску интертекстов; я и теперь пользуюсь этим методом, но он стал для меня сугубо рабочим инструментом и не имеет мировоззренческого значения. Во второй половине 1990-х для меня стало все более заметным и интересным, что изменения в поэзии зависят от состояния общества — но и поэзия устроена так, что позволяет более глубоко понять общественные перемены. Лучше, чем любое другое доступное мне искусство. Я вдруг стал видеть параллели, изоморфные структуры в развитии культуры и общества и попытался говорить о них в своей первой обзорной статье о современной поэзии — она называлась «Прорыв к невозможной связи», как и новая книга. Я действовал наугад, не вполне еще отдавая себе отчета в том, какими методами я пользуюсь; теперь я думаю, что пытался синтезировать концепции русских формалистов, Ролана Барта, и Делеза, и Гваттари. Такой методологический синтез интересен мне и сегодня, хотя, конечно, добавился целый ряд новых имен и теорий.
Для меня развитие общества было связано скорее с развитием различных типов социального воображения, а не с экономическими процессами, не с изменением производственных отношений, как это описали бы марксисты. О том, насколько развитие поэзии может быть соотнесено с развитием экономики, я стал думать намного позже. Мне интересны марксистские работы, но все же сам я не марксист, и для меня влияние экономики на развитие культуры — это не влияние базиса на надстройку, а, скорее, взаимодействие различных типов трансформации человеческого сознания — тех изменений, что происходят в культуре и тех, что происходят в экономике.
А еще тогда, в конце 1990-х, для меня приобрела большое значение мысль о том, что источником стихотворения является не другой текст, а событие, не имеющее вербальной структуры. До-вербальное. Сначала я размышлял об этом довольно наивно, а потом прочитал куски из «Манифеста философии» Алена Бадью и испытал радостное удивление: значит, так можно работать. Помните, Тынянов в статье «О литературной эволюции» говорил про «ближайшие» к литературе «ряды», то есть причинно-следственные цепочки социальных явлений, которые влияют на словесность непосредственно? Во второй половине 1990-х, глядя на трансформации повседневной жизни, я понял — вслед за старшими коллегами, — что уже никакой ряд нельзя назвать «ближайшим», нет более или менее привилегированных рядов. Стихотворение может зародиться под влиянием войны, футбольного матча, повышения налогов, политического митинга, мимолетного разговора с малознакомым человеком и не быть связанным тематически ни с одним из этих событий, а события личной жизни или литературные полемики могут иметь к поэтическому вдохновению очень косвенное, очень опосредованное отношение. Я понял это, читая стихи моих сверстников, которые тогда только входили в литературу.
У меня начали получаться статьи о современной поэзии (до этого не получались), когда я увидел, в чем новы произведения авторов моего поколения, и стал думать вот на эти темы: события, социальный контекст, трансформация субъекта в поэзии. Стихотворение является инструментом трансформации «я»; субъективность пересоздается в результате творчества. Об этом, по-видимому, думали обэриуты — Хармс, Введенский, а я в 1997 году защитил диссертацию о творчестве Хармса, она мне тоже очень помогла, потому что на материале его стихов и прозы я увидел связь литературы с трансформацией сознания.
Вы упомянули о том, что для вас была очень важна поэзия ваших ровесников, и, кроме того, вы писали книгу о поэтическом поколении 1990-х, но не завершили ее.
Сначала позвольте немного сказать о том, как я тогда понимал поколение. В 1994 году в Берлине, где я стажировался от РГГУ, выступал Михаил Смоляницкий, мой ровесник, который потом стал известным театральным критиком и прозаиком. В зале также был Лев Рубинштейн, который жил в Берлине в то время, и он спросил у Михаила, считает ли тот, что его сверстники в литературе образуют новое поколение. Смоляницкий тогда ему ответил, что в русской культуре существует только один образец поколения — это шестидесятники, и, когда у кого-нибудь спрашивают, составляет ли его круг новое поколение, на самом деле этот вопрос предполагает другой смысл: похожи ли он и его друзья на шестидесятников? По его мнению, ни он, ни его друзья на шестидесятников похожи не были. Мне стало интересно, как вообще может конституироваться поколение. К восприятию поколенческой проблематики я был отчасти готов, потому что о ней к тому времени уже много говорил Дмитрий Кузьмин. На время, впрочем, я забыл об этом блестящем обмене репликами, но в 1997 году я увидел, что в текстах разных авторов, примерно моих сверстников, можно увидеть пересекающиеся способы построения метафор, например. Станислав Львовский писал тогда:
время топчет нас молча, как слоны Ганнибала,
кровь стекает на мат из поломанной баскетбольной целки,
слова разбрелись по телу, по теплому человеческому листу,
и по-прежнему пялятся в азотную, зимнюю темноту
освещенные окна пустого по вечерам спортзала.
И я увидел, что у Марии Максимовой, которая сейчас Максимова-Столпник, есть строки о том, что мы пишем собой, располагая свои тела в пространстве. Я понял, что раньше это «письмо собой» так поэтов не интересовало. Значит, возникает новое поколение, и нужно посмотреть, какие есть для этого социальные условия, какие произошли социальные изменения, вызвавшие такую трансформацию воображения. Об этом стоило написать книгу.
Ее замысел состоял в том, чтобы показать: тогдашние произведения поэтов 1990-х (то есть людей, которые родились в конце 1960-х — начале 1970-х годов) в действительности составляют единое, хотя широкое и неоформленное культурное движение. Оно говорит об изменениях в русской культуре, но и в западной тоже, потому что для меня русская культура составляет часть того, что обобщенно называется «Западом». Я задумал книгу о поколении и о том, каким образом это поколение конструирует для себя понимание мира.

Почему из этого ничего не вышло, сказано в предисловии к моей новой книжке, которое вы упомянули. После того как я выпустил в «Новом литературном обозрении» цикл статей, на основании которых собирался скомпоновать эту книгу, я понял, что ситуация усложнилась, появились новые авторы, младшие, и непонятно, по каким правилам они взаимодействуют с авторами моего поколения, и — что было для меня еще важнее — оставалось не вполне понятным, как устроена генетическая связь работы моих сверстников с неподцензурной литературой советского времени. Мне потребовалось очень много времени, чтобы заново продумать эту усложнившуюся картину. По сути, я начал понимать, как эта картина устроена, только в последние два года, когда стало понятно, что процессы литературного развития, начавшиеся в 1990-х годах, существенно меняются, наступает новая культурная эпоха, и на авансцену выходит молодое поколение, которое уже говорит на других языках.
Что происходит с вашим поколением сейчас?
В своих размышлениях на эту тему я как раз проводил сравнение с шестидесятниками. Их окрылили новые возможности, открытые десталинизацией. Часть из них считала необходимым остаться в советской литературе и играть по ее правилам, часть ушла в неподцензурную литературу. Но и для тех, и для других большим испытанием оказались 1970-е годы, потому что до этого у многих было ощущение, что они выражают дух современности и находятся в точке роста культуры, а тут это ощущение, видимо, стало уходить. Возникло ощущение фазового перехода — надо было научиться выживать в среде с другими показателями преломления света и распространения звука. В своем эссе 1990 года «Миф о застое» Петр Вайль и Александр Генис показали, что культура в 1970-е годы развивалась очень быстро, причем в первую очередь неофициальная. Потом об этом писал Андрей Зорин в эссе «От Галича к Пригову». Но это из сегодняшнего дня видна та скорость. А тогда, насколько я могу судить по рассказам и текстам старших коллег, у многих было ощущение, что ты пробиваешься сквозь воздух, который стекленеет вокруг тебя, плюс чувство постоянного опустошения среды из-за эмиграции друзей и вообще интересных авторов, режиссеров, музыкантов.
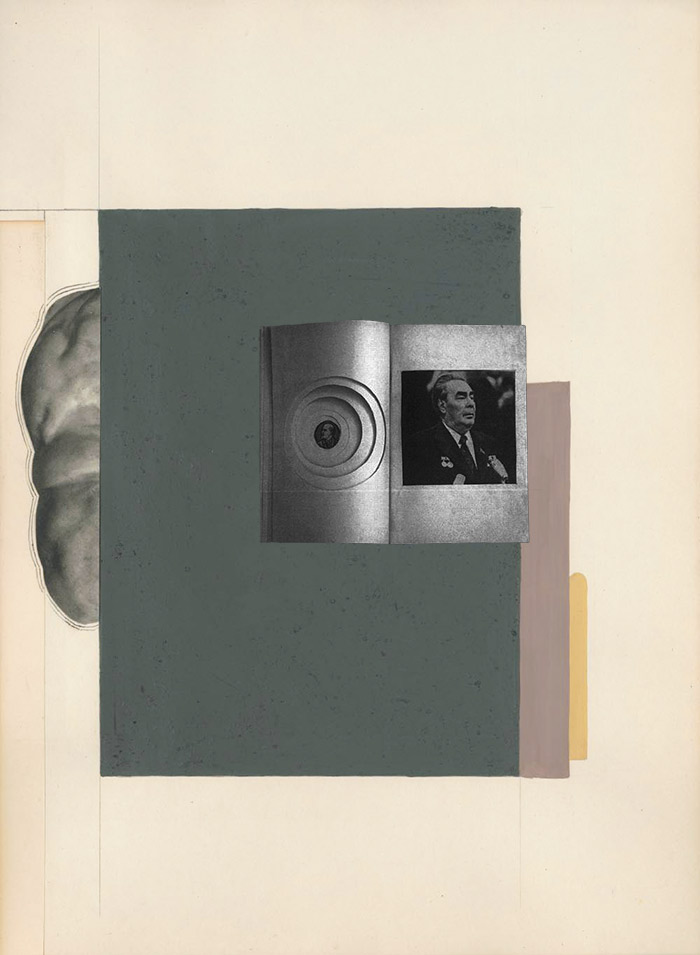
Сегодня для многих из нас — лучшее время, расцвет творческой активности и в то же время испытание, основанное на относительно сходных обстоятельствах: отъезд друзей (мне странно называть его эмиграцией), ощущение все большего давления государства, рождение новых эстетических языков, на которых нужно заново учиться разговаривать... Чтобы сохранить в этой ситуации социальную и культурную открытость и вменяемость, люди с опытом вроде моего должны постоянно меняться и изучать происходящее, иначе они будут копировать то, что делают другие. Для людей моей культурной страты, широко понимаемого культурно-психологического типа, наступает время, когда, с одной стороны, есть уверенность в накопленном опыте и умениях, стремление реализовать свои возможности наиболее полным образом, а, с другой стороны, социально-политическая ситуация каждого из нас испытывает на прочность.
Каких авторов вашего поколения вы читаете сегодня?
Сложно ответить! Назовешь одних, а другие окажутся за кадром. Есть просто люди, стихи которых я постоянно перечитываю. Из людей, которые чуть младше и чуть старше меня, это Станислав Львовский, Андрей Сен-Сеньков, Мария Степанова, Олег Пащенко, Сергей Круглов, Линор Горалик, Александр Скидан, Елена Фанайлова, Николай Звягинцев, Наталья Санникова, Сергей Тимофеев, Семен Ханин... Я назвал тех авторов, стихи которых я привык читать, которые сохраняют для меня важность на протяжении долгого времени. Но я сам себя все время мысленно поправляю: вот, например, Данила Давыдов младше меня на восемь лет, Павел Гольдин — на девять, но в литературном смысле я воспринимаю их как людей, мне близких, в общем, того же поколения, той же культурной генерации. Для меня важен мысленный диалог с русскими поэтами Украины — такими, как тот же Гольдин, Наталья Бельченко, Ия Кива, Дмитрий Казаков... Но это все уже другая история.
А о стихах авторов помладше вы что думаете?
Были поэты, которые родились в конце 1970-х — начале 1980-х и которые важны для меня по тем или иным причинам, но от их дебютов у меня не возникло ощущения цельного культурного движения. Это значительные поэты — такие, например, как Екатерина Соколова, Андрей Черкасов, Мария Ботева, Ника Скандиака, Александр Авербух. У меня не было ощущения, что мы отделены от них каким-то фазовым переходом. Люди, которые появляются сейчас, — это те, кто принес с собой новую поэтическую культурную логику, ее очень интересно попытаться понять, исследовать, но это уже взгляд извне. Это люди, которые родились во второй половине 1980-х — начале 1990-х.
Можете эту новую поэтическую логику как-то описать?
Окончательное ощущение того, что сформировались новые движения, возникло у меня после конференции «Письмо превращает нас», которая прошла в начале сентября прошлого года в Санкт-Петербурге. Для меня было большой честью выступить там со вступительной лекцией про молодых поэтов. Есть новая культурная тенденция, которая воздействует на людей моего поколения и вообще на всю современную культурную ситуацию в целом, но в наибольшей степени она выражена в творчестве авторов, вышедших на авансцену в 2010-е годы. Эту тенденцию можно назвать interpersonal is political. В 1969 году американская феминистка Кэрол Ханиш сформулировала лозунг тогдашнего феминистского движения: «личное — это политическое». А теперь другое: то, как строится коммуникация между людьми, то, как воображаются новые способы взаимодействия между ними, — все это несет в себе политический заряд трансформации общества и приводит к обновлению искусства. Конечно, эти новации в поэзии вписываются в более широкое культурное движение, которое развивается со второй половины 1990-х. Николя Буррио назвал это реляционной эстетикой, Дэниэл Бич — «искусством встречи», а Клэр Бишоп описала через понятие партиципаторной культуры. Тем не менее то, как это осмысление опыта повседневных взаимодействий разворачивается в русской поэзии, на мой взгляд, обладает чертами несомненной новизны, которую требуется дальше описывать.
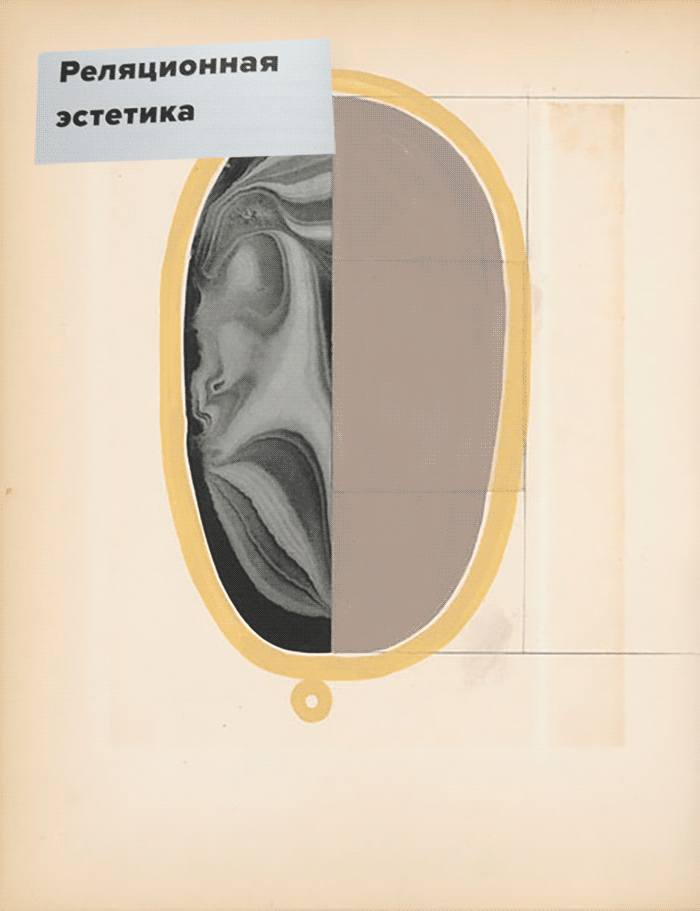
Вообще об этих знаках изменений можно говорить довольно долго. Например, сразу несколько поэтов нового поколения в последние годы обращаются к стихопрозе: это тексты, которые предлагается читать как стихи, они публикуются в поэтических подборках, но не разделены на строчки, а записаны короткими абзацами. Мне кажется, что это связано с тем, что поэты 2010-х очень заинтересованы в идее потенциальности, в идее того, что обозначено как возможность, но еще не свершилось, находится на грани появления. У такой эстетики были предшественники в русской поэзии (помните «С четверга на пятницу» Льва Рубинштейна? «Проснувшись, я сумел вспомнить только что-то между водою и сушей, молчанием и речью, сном и пробуждением и успел подумать: „Вот она, эстетика неопределенности. Вот и снова она...”»), но сегодня такой тип письма становится чертой не индивидуальной, а коллективной поэтики, потому что говорит об исторических изменениях в сознании.
Как бы вы раскрыли метафору прорыва к невозможной связи, вынесенную в заголовок вашей новой книжки?
«Невозможная связь» — это возможность неотчужденного общения и понимания людей. Философы, которые опираются на опыт 1960-х, например, Джорджо Агамбен, говорят о «непроизводимом сообществе»; Виктор Мизиано — о «невозможном сообществе». Но для меня очень важна идея не столько сообщества, сколько полилогического общения, не объединения людей в движение, а их коммуникативного взаимодействия. Поэзия для меня — это способ пережить существование другого человека, причем совершенно невозможным образом, потому что поэзия одновременно и конструирует человеческую индивидуальность, и стирает ее. Я согласен с высказыванием поэта и критика Григория Дашевского о том, что поэтическое «я» сегодня выглядит крайне сомнительно. Добавлю, что с точки зрения терминологии современную поэзию едва ли можно называть лирикой в устоявшемся смысле слова, то есть высказыванием от лица оформленной персоны. Как писал Дашевский, «...„Я” стоит за спиной пишущего и присваивает себе то, что он пишет; сам же он может думать, что пишет „просто стихи”, что пишет их от собственного имени (что на самом деле очень трудно и потому редко) или по-прежнему от имени какой-то высшей силы („язык” и пр.). Примерно так: выходит дама и объявляет: „Петр! Ильич! Чайковской! Ария Гремина! Исполняет имярек”. И все, что после этого будет сказано или спето, хочет того имярек или нет, слышал он это объявление или нет, будет арией Гремина — в нашем случае арией „я”». Точно так же в поэзии работает «я»: когда мы объявляем, что стихотворение будет от первого лица, потом уже это будет считаться голосом самого поэта. Понятно, что над наивным пониманием этого «я» смеялся еще Саша Черный («Когда поэт, описывая даму...»), и люди, читающие стихи, понимают эту условность, но сейчас все чаще появляются стихотворения, в которых «я» в привычном смысле нет вообще.
Вместе с тем само стихотворение конструирует представление о существовании другого человека. Американский философ Фредерик Джеймисон говорит, что в постмодернистскую эпоху невозможно говорить о существовании замкнутого индивидуального «я», у которого есть определенные чувства. Эти чувства оказываются ничьими, поэтому он предлагает их называть не чувствами, а интенсивностями. На мой взгляд, в современной поэзии очень важно, что эти непонятно чьи чувства, метафоры, отсылающие к процессам, которые могут быть не привязаны ни к какому отмеченному стихотворению, в совокупности наделяют мир смыслами в результате усилий конкретного человека, который/которая преодолевает себя в этом высказывании. Читая стихи, я вступаю с ним или с ней в невозможный контакт, потому что его или ее «я» изначально не существует, как и моего «я», они рождаются именно в процессе коммуникации. «Я бы обнял тебя, но я просто текст», как сказал стрит-артист Тимофей Радя. С этим «просто текстом» другое сознание способно вступить в связь, читая стихи, что для меня является чудом и некоторой утопической возможностью другой коммуникации в обществе, которая в полном виде будет возможна только в конце времен, но в виде частичной реализации она может существовать сейчас.
Вы пишете в книге: «Поэтическое творчество сегодня основано на хотя бы частичном отказе от прошлого, заключенного в языке, от личного прошлого автора, от прошлого тех сообществ, которым он или она принадлежат». Поэту ведь нужна почва, традиция, или сейчас это уже не так? Возможна ли вообще эволюция, состоящая из сплошных разрывов?
Ответ на ваш вопрос не может быть дан в утвердительной или отрицательной форме. Таким ответом оказывается развитие современной культуры. Новейшая культурная эволюция действительно состоит в значительной степени из разрывов, из установления связи через пробел и новых разрывов. Это противоречие вообще невозможно разрешить — точнее, его разрешение реализуется через индивидуальное творчество.

Слово «почва» мне кажется неуместным, так как оно идеологически окрашено, если мы вспомним «почвенничество» братьев Достоевских или, например, политические взгляды русских писателей-«деревенщиков». Современная поэзия не опирается на традиции, она вступает с ними в диалог. Здесь я хочу вспомнить замечательное эссе «Возможность высказывания» Михаила Айзенберга, написанное в 1993 году. Айзенберг пишет, что поэтическая практика «...почему-то считает себя законной наследницей всех имеющихся в наличии художественных средств. Очень немногие литераторы чувствуют, что средства перешли к ним по ложному завещанию, что мы владеем ими фиктивно, умозрительно, а по существу, они находятся в той же области желаемого, что и художественная цель. Это ощущение изначальной незаконности своего литературного существования не является, конечно, искомым определителем подлинности, но каким-то разделителем все же является».
Если принять «изначальную незаконность» за рамочное условие существования современного литератора, нужно признать, что современная поэзия не может быть основана на прямом продолжении прежних традиций, а диалог возможен через разрыв, когда некоторые задачи — литературные, политические, эстетические — переоткрываются в современной поэзии, отчасти с оглядкой на поэзию прошлого, но все же в значительной степени на основе осмысления современной культурной, социальной, политической, психологической ситуации. Взаимодействие в сознании поэта «оглядки» и работы по переживанию, наделению смыслами современной ситуации никогда не может быть вполне согласованным. Эта рассогласованность является для меня одним из конститутивных признаков новой поэтической ситуации, даже не моего поколения, а того, что происходит в русской литературе начиная с 1930-х годов. Это то, что принесли в поэзию Георгий Оболдуев и Евгений Кропивницкий, в 1950-е — авторы «лианозовской школы» и Михаил Еремин, в 1970-е — концептуалисты, Михаил Айзенберг, Евгений Сабуров, чуть позже — Алексей Парщиков, Аркадий Драгомощенко, Виктор Кривулин...
Расскажите о вашем интересе к произведениям, посвященным Великой Отечественной войне.
Можно рассказать о биографических корнях этого интереса и об академических. Начну с биографических. Я учился в 79-й школе с углубленным изучением английского языка в Пролетарском районе Москвы. Ее директором был замечательный преподаватель литературы Семен Богуславский, которого в предисловии я назвал одним из своих учителей — не в школьном только, а в более широком, общежизненном смысле. Он сам был хорошим поэтом и в школе создал два музея: музей Владимира Маяковского, в котором часто выступали известные специалисты по его творчеству, и музей поэтов, погибших на Великой Отечественной войне. Вдоль всего коридора четвертого этажа висели стенды со стихами людей, родившихся в конце 1910-х — начале 1920-х годов. Думаю, что точкой отсчета при создании этого музея стала антология 1965 года «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне» из серии «Библиотека поэта». Эта книга канонизировала кружок, который сложился вокруг Литературного института и ИФЛИ в конце 1930-х годов, в него входили такие люди, как Михаил Кульчицкий, Николай Майоров, Павел Коган, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, а неподалеку от них был, например, учившийся на заочном отделении ИФЛИ Александр Солженицын, который писал стихи, несколько похожие на стихи Павла Когана.
Для меня творчество этого круга людей было выражением очень оформленной и очень ощутимо выраженной культурной логики, которая сильно отличалась от моей собственной — в той мере, в которой вообще можно говорить о такой логике применительно к подростку тринадцати-четырнадцати лет. Это ощущение различия я запомнил скорее на эмоциональном, чем на интеллектуальном уровне. В более позднее время, когда я стал думать, как устроен социалистический реализм, я стал понимать, что эта эстетика — не просто вранье или фальшь, а определенный способ упрощения реальности и редукции сильных переживаний, их смыслового выхолащивания. И наиболее ясным образом эта редукция может быть прослежена в том, как публиковавшаяся литература адаптировала для читателей переживания времен Второй мировой войны. Здесь для меня довольно важным толчком стала статья Мариэтты Чудаковой, которую я много раз перечитывал — «Стихотворение Симонова „Жди меня” в литературном процессе советского времени». Я попытался продумать, как травматический опыт войны был понят в публикуемых стихах, а как — в неподцензурной литературе, в которой авторы отключали самоцензуру. Была неподцензурная поэзия о войне: произведения Александра Ривина, Георгия Оболдуева, Иона Дегена, Яна Сатуновского, Игоря Холина, ранние стихи Николая Панченко, опубликованные только в 1990-х годах. Я понял, что неофициальная литература была гораздо больше подготовлена для артикуляции катастрофических переживаний. Война стала моментом, в котором советская идеология показала недостаточность своей объяснительной силы, властям пришлось спешно дополнять ее русским национализмом, религиозными аллюзиями — иначе говоря, трансформировать советскую идеологию на ходу, сохраняя общую идею о том, что поэзию следует пропускать через идеологические фильтры. Но все эти модификации шли параллельно изменениям подцензурной и особенно неподцензурной поэзии, не определяя их, но меняя горизонт ожиданий читателей.
В 1950–1980-е годы изменение советского общества влекло за собой изменение представлений о том, как можно говорить о войне. Обратите внимание, что мы говорим просто «война», Вторую мировую войну не нужно определять, говорят просто «до войны» и «после войны», и все понятно без прилагательных. Так вот, война стала в советской литературе метафорой любого экстремального и экзистенциального опыта. С помощью описаний войны люди стали говорить о тех переживаниях, которые ассоциировались с Большим террором, но не маскировали только описание террора, а говорили и о нем, и о войне одновременно. Я пытаюсь исследовать, как в советской литературе можно было говорить о предельном опыте — в частности, об опыте переживания смерти. Поэтому мы с Марией Майофис, моей женой, коллегой и соавтором, написали важную для меня работу про стихотворение Твардовского «Я убит подо Ржевом». Это стихотворение — одна из самых радикальных попыток такого разговора в советской поэзии.
Для меня описание войны — это и есть ключ к тому, как советские люди понимали сами себя, к исследованию норм «советскости» в культуре, к пониманию самоцензуры в литературе и к пониманию того, как в советской культуре функционировала историческая память.
Почему современная поэзия конструирует человеческую индивидуальность и в то же время стирает ее, может ли культурная эволюция состоять из разрывов и как война в советской литературе стала метафорой любого экзистенциального опыта? В издательстве «Кабинетный ученый» вышла книга «Прорыв к невозможной связи: статьи о русской поэзии» литературоведа Ильи Кукулина — по просьбе «Горького» с ним поговорила Мария Нестеренко.
В предисловии к книге вы пишете, что в 1990-е годы, вопреки моде на интертекстуальность, старались использовать социологические методы. Какие именно?
Речь идет скорее о второй половине 1990-х. До этого я довольно долго воспринимал интертекстуальный метод как последнее слово филологической науки и очень серьезно относился к поиску интертекстов; я и теперь пользуюсь этим методом, но он стал для меня сугубо рабочим инструментом и не имеет мировоззренческого значения. Во второй половине 1990-х для меня стало все более заметным и интересным, что изменения в поэзии зависят от состояния общества — но и поэзия устроена так, что позволяет более глубоко понять общественные перемены. Лучше, чем любое другое доступное мне искусство. Я вдруг стал видеть параллели, изоморфные структуры в развитии культуры и общества и попытался говорить о них в своей первой обзорной статье о современной поэзии — она называлась «Прорыв к невозможной связи», как и новая книга. Я действовал наугад, не вполне еще отдавая себе отчета в том, какими методами я пользуюсь; теперь я думаю, что пытался синтезировать концепции русских формалистов, Ролана Барта, и Делеза, и Гваттари. Такой методологический синтез интересен мне и сегодня, хотя, конечно, добавился целый ряд новых имен и теорий.
Для меня развитие общества было связано скорее с развитием различных типов социального воображения, а не с экономическими процессами, не с изменением производственных отношений, как это описали бы марксисты. О том, насколько развитие поэзии может быть соотнесено с развитием экономики, я стал думать намного позже. Мне интересны марксистские работы, но все же сам я не марксист, и для меня влияние экономики на развитие культуры — это не влияние базиса на надстройку, а, скорее, взаимодействие различных типов трансформации человеческого сознания — тех изменений, что происходят в культуре и тех, что происходят в экономике.
А еще тогда, в конце 1990-х, для меня приобрела большое значение мысль о том, что источником стихотворения является не другой текст, а событие, не имеющее вербальной структуры. До-вербальное. Сначала я размышлял об этом довольно наивно, а потом прочитал куски из «Манифеста философии» Алена Бадью и испытал радостное удивление: значит, так можно работать. Помните, Тынянов в статье «О литературной эволюции» говорил про «ближайшие» к литературе «ряды», то есть причинно-следственные цепочки социальных явлений, которые влияют на словесность непосредственно? Во второй половине 1990-х, глядя на трансформации повседневной жизни, я понял — вслед за старшими коллегами, — что уже никакой ряд нельзя назвать «ближайшим», нет более или менее привилегированных рядов. Стихотворение может зародиться под влиянием войны, футбольного матча, повышения налогов, политического митинга, мимолетного разговора с малознакомым человеком и не быть связанным тематически ни с одним из этих событий, а события личной жизни или литературные полемики могут иметь к поэтическому вдохновению очень косвенное, очень опосредованное отношение. Я понял это, читая стихи моих сверстников, которые тогда только входили в литературу.
У меня начали получаться статьи о современной поэзии (до этого не получались), когда я увидел, в чем новы произведения авторов моего поколения, и стал думать вот на эти темы: события, социальный контекст, трансформация субъекта в поэзии. Стихотворение является инструментом трансформации «я»; субъективность пересоздается в результате творчества. Об этом, по-видимому, думали обэриуты — Хармс, Введенский, а я в 1997 году защитил диссертацию о творчестве Хармса, она мне тоже очень помогла, потому что на материале его стихов и прозы я увидел связь литературы с трансформацией сознания.
Вы упомянули о том, что для вас была очень важна поэзия ваших ровесников, и, кроме того, вы писали книгу о поэтическом поколении 1990-х, но не завершили ее.
Сначала позвольте немного сказать о том, как я тогда понимал поколение. В 1994 году в Берлине, где я стажировался от РГГУ, выступал Михаил Смоляницкий, мой ровесник, который потом стал известным театральным критиком и прозаиком. В зале также был Лев Рубинштейн, который жил в Берлине в то время, и он спросил у Михаила, считает ли тот, что его сверстники в литературе образуют новое поколение. Смоляницкий тогда ему ответил, что в русской культуре существует только один образец поколения — это шестидесятники, и, когда у кого-нибудь спрашивают, составляет ли его круг новое поколение, на самом деле этот вопрос предполагает другой смысл: похожи ли он и его друзья на шестидесятников? По его мнению, ни он, ни его друзья на шестидесятников похожи не были. Мне стало интересно, как вообще может конституироваться поколение. К восприятию поколенческой проблематики я был отчасти готов, потому что о ней к тому времени уже много говорил Дмитрий Кузьмин. На время, впрочем, я забыл об этом блестящем обмене репликами, но в 1997 году я увидел, что в текстах разных авторов, примерно моих сверстников, можно увидеть пересекающиеся способы построения метафор, например. Станислав Львовский писал тогда:
время топчет нас молча, как слоны Ганнибала,
кровь стекает на мат из поломанной баскетбольной целки,
слова разбрелись по телу, по теплому человеческому листу,
и по-прежнему пялятся в азотную, зимнюю темноту
освещенные окна пустого по вечерам спортзала.
И я увидел, что у Марии Максимовой, которая сейчас Максимова-Столпник, есть строки о том, что мы пишем собой, располагая свои тела в пространстве. Я понял, что раньше это «письмо собой» так поэтов не интересовало. Значит, возникает новое поколение, и нужно посмотреть, какие есть для этого социальные условия, какие произошли социальные изменения, вызвавшие такую трансформацию воображения. Об этом стоило написать книгу.
Ее замысел состоял в том, чтобы показать: тогдашние произведения поэтов 1990-х (то есть людей, которые родились в конце 1960-х — начале 1970-х годов) в действительности составляют единое, хотя широкое и неоформленное культурное движение. Оно говорит об изменениях в русской культуре, но и в западной тоже, потому что для меня русская культура составляет часть того, что обобщенно называется «Западом». Я задумал книгу о поколении и о том, каким образом это поколение конструирует для себя понимание мира.

Почему из этого ничего не вышло, сказано в предисловии к моей новой книжке, которое вы упомянули. После того как я выпустил в «Новом литературном обозрении» цикл статей, на основании которых собирался скомпоновать эту книгу, я понял, что ситуация усложнилась, появились новые авторы, младшие, и непонятно, по каким правилам они взаимодействуют с авторами моего поколения, и — что было для меня еще важнее — оставалось не вполне понятным, как устроена генетическая связь работы моих сверстников с неподцензурной литературой советского времени. Мне потребовалось очень много времени, чтобы заново продумать эту усложнившуюся картину. По сути, я начал понимать, как эта картина устроена, только в последние два года, когда стало понятно, что процессы литературного развития, начавшиеся в 1990-х годах, существенно меняются, наступает новая культурная эпоха, и на авансцену выходит молодое поколение, которое уже говорит на других языках.
Что происходит с вашим поколением сейчас?
В своих размышлениях на эту тему я как раз проводил сравнение с шестидесятниками. Их окрылили новые возможности, открытые десталинизацией. Часть из них считала необходимым остаться в советской литературе и играть по ее правилам, часть ушла в неподцензурную литературу. Но и для тех, и для других большим испытанием оказались 1970-е годы, потому что до этого у многих было ощущение, что они выражают дух современности и находятся в точке роста культуры, а тут это ощущение, видимо, стало уходить. Возникло ощущение фазового перехода — надо было научиться выживать в среде с другими показателями преломления света и распространения звука. В своем эссе 1990 года «Миф о застое» Петр Вайль и Александр Генис показали, что культура в 1970-е годы развивалась очень быстро, причем в первую очередь неофициальная. Потом об этом писал Андрей Зорин в эссе «От Галича к Пригову». Но это из сегодняшнего дня видна та скорость. А тогда, насколько я могу судить по рассказам и текстам старших коллег, у многих было ощущение, что ты пробиваешься сквозь воздух, который стекленеет вокруг тебя, плюс чувство постоянного опустошения среды из-за эмиграции друзей и вообще интересных авторов, режиссеров, музыкантов.
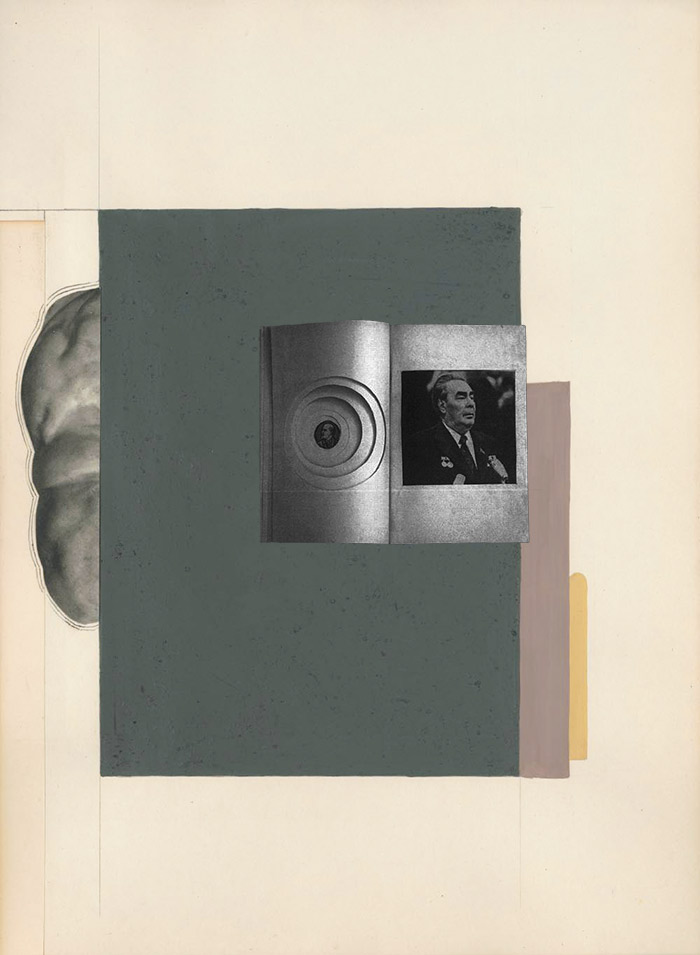
Сегодня для многих из нас — лучшее время, расцвет творческой активности и в то же время испытание, основанное на относительно сходных обстоятельствах: отъезд друзей (мне странно называть его эмиграцией), ощущение все большего давления государства, рождение новых эстетических языков, на которых нужно заново учиться разговаривать... Чтобы сохранить в этой ситуации социальную и культурную открытость и вменяемость, люди с опытом вроде моего должны постоянно меняться и изучать происходящее, иначе они будут копировать то, что делают другие. Для людей моей культурной страты, широко понимаемого культурно-психологического типа, наступает время, когда, с одной стороны, есть уверенность в накопленном опыте и умениях, стремление реализовать свои возможности наиболее полным образом, а, с другой стороны, социально-политическая ситуация каждого из нас испытывает на прочность.
Каких авторов вашего поколения вы читаете сегодня?
Сложно ответить! Назовешь одних, а другие окажутся за кадром. Есть просто люди, стихи которых я постоянно перечитываю. Из людей, которые чуть младше и чуть старше меня, это Станислав Львовский, Андрей Сен-Сеньков, Мария Степанова, Олег Пащенко, Сергей Круглов, Линор Горалик, Александр Скидан, Елена Фанайлова, Николай Звягинцев, Наталья Санникова, Сергей Тимофеев, Семен Ханин... Я назвал тех авторов, стихи которых я привык читать, которые сохраняют для меня важность на протяжении долгого времени. Но я сам себя все время мысленно поправляю: вот, например, Данила Давыдов младше меня на восемь лет, Павел Гольдин — на девять, но в литературном смысле я воспринимаю их как людей, мне близких, в общем, того же поколения, той же культурной генерации. Для меня важен мысленный диалог с русскими поэтами Украины — такими, как тот же Гольдин, Наталья Бельченко, Ия Кива, Дмитрий Казаков... Но это все уже другая история.
А о стихах авторов помладше вы что думаете?
Были поэты, которые родились в конце 1970-х — начале 1980-х и которые важны для меня по тем или иным причинам, но от их дебютов у меня не возникло ощущения цельного культурного движения. Это значительные поэты — такие, например, как Екатерина Соколова, Андрей Черкасов, Мария Ботева, Ника Скандиака, Александр Авербух. У меня не было ощущения, что мы отделены от них каким-то фазовым переходом. Люди, которые появляются сейчас, — это те, кто принес с собой новую поэтическую культурную логику, ее очень интересно попытаться понять, исследовать, но это уже взгляд извне. Это люди, которые родились во второй половине 1980-х — начале 1990-х.
Можете эту новую поэтическую логику как-то описать?
Окончательное ощущение того, что сформировались новые движения, возникло у меня после конференции «Письмо превращает нас», которая прошла в начале сентября прошлого года в Санкт-Петербурге. Для меня было большой честью выступить там со вступительной лекцией про молодых поэтов. Есть новая культурная тенденция, которая воздействует на людей моего поколения и вообще на всю современную культурную ситуацию в целом, но в наибольшей степени она выражена в творчестве авторов, вышедших на авансцену в 2010-е годы. Эту тенденцию можно назвать interpersonal is political. В 1969 году американская феминистка Кэрол Ханиш сформулировала лозунг тогдашнего феминистского движения: «личное — это политическое». А теперь другое: то, как строится коммуникация между людьми, то, как воображаются новые способы взаимодействия между ними, — все это несет в себе политический заряд трансформации общества и приводит к обновлению искусства. Конечно, эти новации в поэзии вписываются в более широкое культурное движение, которое развивается со второй половины 1990-х. Николя Буррио назвал это реляционной эстетикой, Дэниэл Бич — «искусством встречи», а Клэр Бишоп описала через понятие партиципаторной культуры. Тем не менее то, как это осмысление опыта повседневных взаимодействий разворачивается в русской поэзии, на мой взгляд, обладает чертами несомненной новизны, которую требуется дальше описывать.
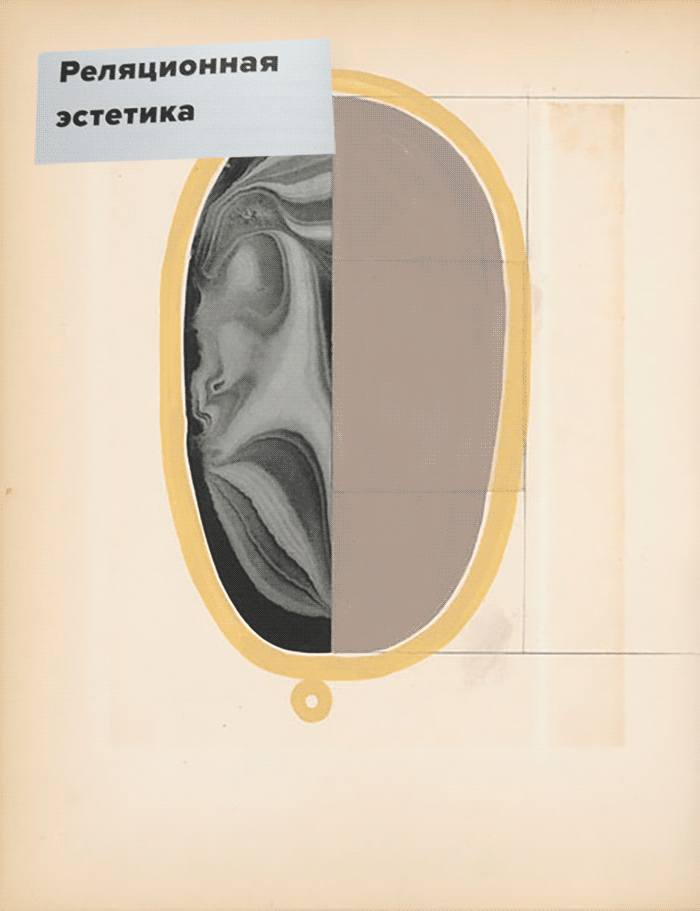
Вообще об этих знаках изменений можно говорить довольно долго. Например, сразу несколько поэтов нового поколения в последние годы обращаются к стихопрозе: это тексты, которые предлагается читать как стихи, они публикуются в поэтических подборках, но не разделены на строчки, а записаны короткими абзацами. Мне кажется, что это связано с тем, что поэты 2010-х очень заинтересованы в идее потенциальности, в идее того, что обозначено как возможность, но еще не свершилось, находится на грани появления. У такой эстетики были предшественники в русской поэзии (помните «С четверга на пятницу» Льва Рубинштейна? «Проснувшись, я сумел вспомнить только что-то между водою и сушей, молчанием и речью, сном и пробуждением и успел подумать: „Вот она, эстетика неопределенности. Вот и снова она...”»), но сегодня такой тип письма становится чертой не индивидуальной, а коллективной поэтики, потому что говорит об исторических изменениях в сознании.
Как бы вы раскрыли метафору прорыва к невозможной связи, вынесенную в заголовок вашей новой книжки?
«Невозможная связь» — это возможность неотчужденного общения и понимания людей. Философы, которые опираются на опыт 1960-х, например, Джорджо Агамбен, говорят о «непроизводимом сообществе»; Виктор Мизиано — о «невозможном сообществе». Но для меня очень важна идея не столько сообщества, сколько полилогического общения, не объединения людей в движение, а их коммуникативного взаимодействия. Поэзия для меня — это способ пережить существование другого человека, причем совершенно невозможным образом, потому что поэзия одновременно и конструирует человеческую индивидуальность, и стирает ее. Я согласен с высказыванием поэта и критика Григория Дашевского о том, что поэтическое «я» сегодня выглядит крайне сомнительно. Добавлю, что с точки зрения терминологии современную поэзию едва ли можно называть лирикой в устоявшемся смысле слова, то есть высказыванием от лица оформленной персоны. Как писал Дашевский, «...„Я” стоит за спиной пишущего и присваивает себе то, что он пишет; сам же он может думать, что пишет „просто стихи”, что пишет их от собственного имени (что на самом деле очень трудно и потому редко) или по-прежнему от имени какой-то высшей силы („язык” и пр.). Примерно так: выходит дама и объявляет: „Петр! Ильич! Чайковской! Ария Гремина! Исполняет имярек”. И все, что после этого будет сказано или спето, хочет того имярек или нет, слышал он это объявление или нет, будет арией Гремина — в нашем случае арией „я”». Точно так же в поэзии работает «я»: когда мы объявляем, что стихотворение будет от первого лица, потом уже это будет считаться голосом самого поэта. Понятно, что над наивным пониманием этого «я» смеялся еще Саша Черный («Когда поэт, описывая даму...»), и люди, читающие стихи, понимают эту условность, но сейчас все чаще появляются стихотворения, в которых «я» в привычном смысле нет вообще.
Вместе с тем само стихотворение конструирует представление о существовании другого человека. Американский философ Фредерик Джеймисон говорит, что в постмодернистскую эпоху невозможно говорить о существовании замкнутого индивидуального «я», у которого есть определенные чувства. Эти чувства оказываются ничьими, поэтому он предлагает их называть не чувствами, а интенсивностями. На мой взгляд, в современной поэзии очень важно, что эти непонятно чьи чувства, метафоры, отсылающие к процессам, которые могут быть не привязаны ни к какому отмеченному стихотворению, в совокупности наделяют мир смыслами в результате усилий конкретного человека, который/которая преодолевает себя в этом высказывании. Читая стихи, я вступаю с ним или с ней в невозможный контакт, потому что его или ее «я» изначально не существует, как и моего «я», они рождаются именно в процессе коммуникации. «Я бы обнял тебя, но я просто текст», как сказал стрит-артист Тимофей Радя. С этим «просто текстом» другое сознание способно вступить в связь, читая стихи, что для меня является чудом и некоторой утопической возможностью другой коммуникации в обществе, которая в полном виде будет возможна только в конце времен, но в виде частичной реализации она может существовать сейчас.
Вы пишете в книге: «Поэтическое творчество сегодня основано на хотя бы частичном отказе от прошлого, заключенного в языке, от личного прошлого автора, от прошлого тех сообществ, которым он или она принадлежат». Поэту ведь нужна почва, традиция, или сейчас это уже не так? Возможна ли вообще эволюция, состоящая из сплошных разрывов?
Ответ на ваш вопрос не может быть дан в утвердительной или отрицательной форме. Таким ответом оказывается развитие современной культуры. Новейшая культурная эволюция действительно состоит в значительной степени из разрывов, из установления связи через пробел и новых разрывов. Это противоречие вообще невозможно разрешить — точнее, его разрешение реализуется через индивидуальное творчество.

Слово «почва» мне кажется неуместным, так как оно идеологически окрашено, если мы вспомним «почвенничество» братьев Достоевских или, например, политические взгляды русских писателей-«деревенщиков». Современная поэзия не опирается на традиции, она вступает с ними в диалог. Здесь я хочу вспомнить замечательное эссе «Возможность высказывания» Михаила Айзенберга, написанное в 1993 году. Айзенберг пишет, что поэтическая практика «...почему-то считает себя законной наследницей всех имеющихся в наличии художественных средств. Очень немногие литераторы чувствуют, что средства перешли к ним по ложному завещанию, что мы владеем ими фиктивно, умозрительно, а по существу, они находятся в той же области желаемого, что и художественная цель. Это ощущение изначальной незаконности своего литературного существования не является, конечно, искомым определителем подлинности, но каким-то разделителем все же является».
Если принять «изначальную незаконность» за рамочное условие существования современного литератора, нужно признать, что современная поэзия не может быть основана на прямом продолжении прежних традиций, а диалог возможен через разрыв, когда некоторые задачи — литературные, политические, эстетические — переоткрываются в современной поэзии, отчасти с оглядкой на поэзию прошлого, но все же в значительной степени на основе осмысления современной культурной, социальной, политической, психологической ситуации. Взаимодействие в сознании поэта «оглядки» и работы по переживанию, наделению смыслами современной ситуации никогда не может быть вполне согласованным. Эта рассогласованность является для меня одним из конститутивных признаков новой поэтической ситуации, даже не моего поколения, а того, что происходит в русской литературе начиная с 1930-х годов. Это то, что принесли в поэзию Георгий Оболдуев и Евгений Кропивницкий, в 1950-е — авторы «лианозовской школы» и Михаил Еремин, в 1970-е — концептуалисты, Михаил Айзенберг, Евгений Сабуров, чуть позже — Алексей Парщиков, Аркадий Драгомощенко, Виктор Кривулин...
Расскажите о вашем интересе к произведениям, посвященным Великой Отечественной войне.
Можно рассказать о биографических корнях этого интереса и об академических. Начну с биографических. Я учился в 79-й школе с углубленным изучением английского языка в Пролетарском районе Москвы. Ее директором был замечательный преподаватель литературы Семен Богуславский, которого в предисловии я назвал одним из своих учителей — не в школьном только, а в более широком, общежизненном смысле. Он сам был хорошим поэтом и в школе создал два музея: музей Владимира Маяковского, в котором часто выступали известные специалисты по его творчеству, и музей поэтов, погибших на Великой Отечественной войне. Вдоль всего коридора четвертого этажа висели стенды со стихами людей, родившихся в конце 1910-х — начале 1920-х годов. Думаю, что точкой отсчета при создании этого музея стала антология 1965 года «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне» из серии «Библиотека поэта». Эта книга канонизировала кружок, который сложился вокруг Литературного института и ИФЛИ в конце 1930-х годов, в него входили такие люди, как Михаил Кульчицкий, Николай Майоров, Павел Коган, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, а неподалеку от них был, например, учившийся на заочном отделении ИФЛИ Александр Солженицын, который писал стихи, несколько похожие на стихи Павла Когана.
Для меня творчество этого круга людей было выражением очень оформленной и очень ощутимо выраженной культурной логики, которая сильно отличалась от моей собственной — в той мере, в которой вообще можно говорить о такой логике применительно к подростку тринадцати-четырнадцати лет. Это ощущение различия я запомнил скорее на эмоциональном, чем на интеллектуальном уровне. В более позднее время, когда я стал думать, как устроен социалистический реализм, я стал понимать, что эта эстетика — не просто вранье или фальшь, а определенный способ упрощения реальности и редукции сильных переживаний, их смыслового выхолащивания. И наиболее ясным образом эта редукция может быть прослежена в том, как публиковавшаяся литература адаптировала для читателей переживания времен Второй мировой войны. Здесь для меня довольно важным толчком стала статья Мариэтты Чудаковой, которую я много раз перечитывал — «Стихотворение Симонова „Жди меня” в литературном процессе советского времени». Я попытался продумать, как травматический опыт войны был понят в публикуемых стихах, а как — в неподцензурной литературе, в которой авторы отключали самоцензуру. Была неподцензурная поэзия о войне: произведения Александра Ривина, Георгия Оболдуева, Иона Дегена, Яна Сатуновского, Игоря Холина, ранние стихи Николая Панченко, опубликованные только в 1990-х годах. Я понял, что неофициальная литература была гораздо больше подготовлена для артикуляции катастрофических переживаний. Война стала моментом, в котором советская идеология показала недостаточность своей объяснительной силы, властям пришлось спешно дополнять ее русским национализмом, религиозными аллюзиями — иначе говоря, трансформировать советскую идеологию на ходу, сохраняя общую идею о том, что поэзию следует пропускать через идеологические фильтры. Но все эти модификации шли параллельно изменениям подцензурной и особенно неподцензурной поэзии, не определяя их, но меняя горизонт ожиданий читателей.
В 1950–1980-е годы изменение советского общества влекло за собой изменение представлений о том, как можно говорить о войне. Обратите внимание, что мы говорим просто «война», Вторую мировую войну не нужно определять, говорят просто «до войны» и «после войны», и все понятно без прилагательных. Так вот, война стала в советской литературе метафорой любого экстремального и экзистенциального опыта. С помощью описаний войны люди стали говорить о тех переживаниях, которые ассоциировались с Большим террором, но не маскировали только описание террора, а говорили и о нем, и о войне одновременно. Я пытаюсь исследовать, как в советской литературе можно было говорить о предельном опыте — в частности, об опыте переживания смерти. Поэтому мы с Марией Майофис, моей женой, коллегой и соавтором, написали важную для меня работу про стихотворение Твардовского «Я убит подо Ржевом». Это стихотворение — одна из самых радикальных попыток такого разговора в советской поэзии.
Для меня описание войны — это и есть ключ к тому, как советские люди понимали сами себя, к исследованию норм «советскости» в культуре, к пониманию самоцензуры в литературе и к пониманию того, как в советской культуре функционировала историческая память.