«Дать бы по скуле изобретателю сердца!»: Андрей Платонов как пророк Модерна
6 января 2021 ● "Горький"
Валерий Шлыков — к 70-летию со дня смерти автора «Чевенгура».
70 лет назад, 5 января 1951 года, не стало Андрея Платонова. Непонятый и непризнанный большинством современников, он лучше других сумел воплотить в творчестве — да и в судьбе — суть своей эпохи. О том, почему автора «Чевенгура» можно считать пророком Модерна, рассказывает Валерий Шлыков.
Есть люди, которым талант и обостренная чуткость позволили выразить самое существо их эпохи и которых эпоха, словно в отместку, не признала, отвергла, сломала. Таковы Спиноза, Ницше, Гёльдерлин. Таков — в первую голову — Андрей Платонов. Пробиваясь сквозь жизнь в закатных сумерках эпохи Модерна, он сумел, подобно последнему яркому лучу, высветлить, запечатлеть ее самые сокровенные мечты, самые могущественные силы, самые глубинные страхи. Это позволило ему с непревзойденной страстью и пониманием изобразить правдивый портрет человека Модерна — с его светом и тьмой, противоречиями и безднами.
Но прежде чем перейти к портрету, нужно сказать пару слов о кисти, которой он был написан. Ею стала сама судьба Платонова. Тут вот что показательно: иной любитель древностей, или поэт-романтик, или верующий, попав меж челюстей «века-волкодава», мог бы утешаться (и возвышаться) своей непричастностью к нему, но каково было Платонову, вне этого участия себя не мыслившему?! Что было делать коммунисту и выходцу из рабочих, после того как его «бедняцкая хроника» «Впрок» была пригвождена к всесоюзному забору весомейшим сталинским кг/ам: «болван», «подлец», «мерзавец»? Где брать силы (и средства для жизни) на три следующих года глухого замалчивания, когда не печатались даже крохотные рассказы, которые Платонов безропотно отдавал на «перековку» партийным редакторам? В чем искать вдохновения для едва начатых (и наверняка великих, будь они написаны!) романов («Македонский офицер», «Технический роман», «Путешествие из Ленинграда в Москву в 1937 году») после вторичного разгрома совкритиками, клеймившими творчество Платонова как «антинародное» и «антимарксистское»? Как устоять после ареста (а затем и смерти) единственного сына, чью юную судьбу сломала нелепейшая шутка и рудники Норильлага? За что было цепляться зубами, когда смертельно больного туберкулезом писателя, вслед за Ахматовой и Зощенко, в третий раз полоскали на всю страну за «пакостное воображение», «юродство» и «злопыхательство»? Итак: какой душой нужно обладать, чтобы, будучи растоптанным эпохой, не перестать любить ее — не оболгать, не высмеять, но сказать о ней истину? На похороны Платонова пришло сорок человек, писателей почти не было. Он сам проницательно предвидел это еще в тридцать четвертом, записав в блокноте: «На телеграфной проволоке сидит совсем мелкая птичка и надменно попевает. Мимо мчатся экспрессы, в купе е***ся гении литературы, и птичка поет. — Еще неизвестно: чья возьмет — птички или экспресса». Платонов и был той «птичкой», «чья взяла», — не потому, что ее песня оказалась громче паровоза эпохи, но потому, что вместила, пропела и его гудок.
«Он подошел ко вселенной не как поэт и философ, а как рабочий»
Здесь не место вести дискуссию о периодизации Модерна. Обопремся на мнение Райнхарта Козеллека, Франсуа Артога, Алейды Ассман и прочих историков, дающих в качестве временных рамок 1780-е и 1980-е годы. Таким образом, Модерн непосредственно наследует Просвещению, перенимая у того культ разума, разрыв с традицией и упование на лучшее будущее. Модерн радикализует эти небывалые начинания, пришпоривая себя страстью к новизне и творческому разрушению (революции). Откуда черпаются силы? Из прежде презираемой способности к труду, которая постепенно становится главной характеристикой человека. И не только его. Запрос на все, готовое трудиться — причем трудиться безотказно и неистово, — уже не удовлетворяется человеком: ему в помощь (и на смену?) приходят машины. Отринув прежнюю роль забавы придворных, техника оказывается основным движителем цивилизации, передовым строителем будущего. Старый человек за ней не поспевает — и возникает потребность в новом. Причем эта потребность столь велика, что реализуется сразу в двух направлениях: количественном и качественном. По первому пути растет фронт массовой мобилизации, сторукое «Мы», которому по плечу задачи, и не снившиеся любому одиночному герою. Вторая траектория уходит в работу над телом, психикой и сознанием, требуя от человека изменить свою природу и стать сверхчеловеком, титаном, новым богом. Обе линии, как атака разных видов войск, сходятся на самой грандиозной цели из когда-либо ставившихся — преобразовании природы вообще.
Чтобы конкретизировать сказанное, обратимся к первоисточникам. Первым (не по времени, но по важности) нужно упомянуть «Закат Европы» Освальда Шпенглера, в котором дана глубочайшая характеристика западного человека как фаустовского, устремленного в бесконечное и жаждущего «безграничного господства» над ним. То, что западное человечество узнало в этом зеркале себя, подтверждалось колоссальной популярностью книги (которую, к слову, молодой Платонов считал «ослепительной»). Кстати, некоторый пессимизм заглавия не должен никого смущать, ибо сиянию Запада Шпенглер отвел еще несколько столетий, прежде чем он впадет во «внеисторическое окоченение». Следуя мысли Шпенглера о технике как естественном продолжении фаустовского человека, Эрнст Юнгер в «Рабочем» описал новый гештальт рабочего, назвав его «окруженным регионами хаоса» «титаном», что мобилизует техникой весь мир и обретает свободу в непрерывном труде.
В России еще в девятнадцатом столетии Николай Федоров оценил неисчерпаемый потенциал науки, поставив поистине грандиозные задачи научного воскрешения мертвых, перетворения человека в бессмертное существо и заселения космических пространств. Отчетливое влияние федоровских идей прослеживается у Циолковского, Брюсова, Горького, Хлебникова, Заболоцкого, Пастернака («найдут и воскресят»). Хорошо известен образ «мастерской человечьих воскрешений» из поэмы Маяковского «Про это». Революция 1917 года породила авангардное течение пролетарской поэзии, добавившей к федоровским задачам прометеевский пыл немедленного преобразования («новые дни творенья» Гастева, «Аргонавты Бессмертья» Яковенко, «вулканизм» Святогора). Советская власть с первых дней шла в этом же русле, осуществив, к примеру, такие типично федоровианские проекты, как бальзамирование Ленина и Всесоюзный институт экспериментальной медицины, изучавший вопрос «радикального продления жизни».
Внимательный читатель вправе поинтересоваться, что же это за западный Модерн, если за него отвечают только русские и немцы? Это, конечно, не так. Просто в силу политико-экономических причин социальные преобразования в Германии и особенно России запоздали, а когда случились, то совпали с подлинным триумфом науки и техники во всех областях их применения. Это и привело к столь яркому феномену, по которому мы теперь можем опознать всю эпоху Модерна с наибольшей отчетливостью. Англо-французский же Модерн оказался в каком-то смысле размазан во времени, в период Великой французской революции техника еще не имела такого значения, а затем с ней, упрощенно говоря, свыклись. «Буржуй», говоря словами Антанаса Мацейны, подмял «прометея». Впрочем, в первых десятилетиях двадцатого века на Западе усиливаются иные настроения, хоть и кажущиеся во многом противоположными революционному пафосу, но на деле продолжающие выражать суть фаустовского человека, только теперь его обратную, внутреннюю сторону. Речь идет об экзистенциализме.
Почему фаустовский человек стремится к новым мирам? Потому что его безоговорочно не устраивает этот. Здесь он, писал Шпенглер, чувствует «безграничное одиночество», «несказанную заброшенность» и «мировую тоску». По сути, его «штурм неба» — это бунт, бунт против абсурда и несовершенства бытия, против «низведения к истории» или природе, против смерти («Все, что умирает, лишено смысла» — Камю). Чувствительность человека Модерна так велика, а нерв столь обнажен, что если не получается сейчас же все изменить, целиком преобразовать, то пусть оно катится к черту и «лучше — умереть» (Бенн). Если же и это не выход, остается тускло тлеть, маяться, сходить с ума от тоски и совершать ничем не мотивированные поступки вроде убийства незнакомого араба на залитом солнцем алжирском побережье. Или сжигать мир вовне, или сжигать себя изнутри — таков и только таков «выбор» подобного метеориту фаустовского человека, человека Модерна.
«Надо найти у мира голову и треснуть по ней чем-нибудь тяжким...»
Это пространное (а на самом деле по необходимости краткое) введение в перспективу Модерна понадобилось нам, чтобы махом броситься в кипящие котлы платоновского гения. Ранний Платонов начала двадцатых годов — это обжигающий коктейль ультрарадикальных идей федоровского и пролеткультовского толка. Главная действующая сила его первых рассказов, стихов и публицистических статей — «Мы — Масса, единое существо, родившееся из человека», но в котором старого «человеческого нет ничего». Этому грядущему человечеству, «сбитому в один сверкающий металлический кусок», противостоит такая же «тяжелая свисшая необтесанная глыба» — природа. С ней ведется буквально война на уничтожение: необходимо «убить вселенную», «кончить мир», «потушить солнце», чтобы было возможным зажечь «иной свет». Этот космос, «недоделанный, мятущийся, бесцельный», «слепой зверь», никуда не годится, его нельзя полюбить, здесь «невозможно то, что единственно нужно человеку, — душа другого человека». Поэтому люди «недовольны миром, для них мир не загадка, а куча железного лома, из которого надо сделать двигатель».
Полагаю, подобные строки могут удивить даже не самого впечатлительного читателя — и это еще не все. С помощью «товарищей машин» человек переделывает не только вселенную, но и себя самого. Решительно искореняются пережитки прошлого — чувства и страсти, умертвляется «теплокровное, божественное сердце», «вся жизнь переходит в голову» и «сознание становится душой человека». «У людей разрастается голова», а тело походит «на былиночку и отмирает по частям за ненадобностью». На этом пути превращения в, по-видимому, идеальный шар появляется «новый, совершенный тип человека — свирепой энергии и озаренной гениальности». Он не нуждается «ни в женщинах, ни в пище и питье», «работает без перерывов», не знает смерти, а если что-то и случается, то «умерших немедленно воскрешают». Больше всего новые люди ценят точную мысль, а в лишенном точности искусстве потребности не испытывают, так как умеют непосредственно «спаиваться в одно». В результате их титанической работы почти вся вселенная превращается в «человечество — сознание», так что собственно «природы остается немного: несколько черных точек».
Под стать такому «прокаленному, тверже материи» человечеству и его отдельные представители. Герой рассказа «Сатана мысли» инженер-пиротехник Вогулов был «главным руководителем работ по перестройке земного шара». Но этого ему показалось мало: изобретя суперэнергию — «ультрасвет», он решает «пересотворить вселенную». Еще один инженер — Электрон из рассказа «Жажда нищего» — не может терпеть, когда у мира остается хоть какая-то Тайна. «Тайна тяготит, как голод, и от нее можно потерять бессмертие и силу науки». В погоне за разгадкой Электрон устраняет последний пережиток, еще мешающий человечеству, — женщин. В повести «Эфирный тракт» дан целый ряд энтузиастов-изобретателей, для которых «наука стала жизненной физиологической страстью, такой же, как пол» (а мы бы сказали, «секс»). Они открывают тайну «спрессованного эфира» и стремятся к «полному завоеванию истины».
Будет неправильным отнести весь этот научно-технический радикализм на счет молодого писателя молодой революционной эпохи. Инженеры-преобразователи (а сам Платонов был из таких) действуют и в романе «Счастливая Москва», писавшемся в глухую сталинскую пору 1933–1937 годов. Но и прочие герои Платонова не перестают мечтать о грядущей техноутопии. Дванов, человек «с открытым сердцем» из «Чевенгура», предвидит, что «после завоевания земного шара — наступит час судьбы всей вселенной, момент страшного суда над ней». «Сокровенный человек» Фома Пухов называет природу «гадой бестолковой» и находит «необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость». Даже в военных рассказах солдаты и офицеры уверены, что «после немца мы пойдем против смерти и также одолеем ее, потому что наука и знание будущих поколений получат высшее развитие».
Таким образом, фаустовская, титаническая парадигма Модерна была для Платонова не мимолетным увлечением, данью авангардной моде, но устойчивым мотивом всего творчества, важной характеристикой как его персонажей, так и авторского мировоззрения. Однако, остановись Платонов только на ней, он бы мало чем отличался от биокосмиста Святогора, сочинителя «Петуха революции». Жизненную силу, подлинный трагизм и безусловное оправдание придает этой парадигме измерение, которое мы считаем экзистенциальным, а сам Платонов назвал бы «сокровенным».
«Есть в жизни живущие и есть обреченные. Я обреченный»
Герои Платонова подобны Рокантену из сартровской «Тошноты», для которого скука была «глубинной сутью существования, самой материей, из которой он сделан». В главных произведениях Платонова, «Чевенгуре» и «Котловане», слова «скука», «скучно» и их производные упоминаются свыше 150 раз! Здесь скучно улыбаются, скучно ходят, скучно спят, даже думают о любви и умирают скучно. То, что скука не просто временное настроение, а фундаментальная характеристика мира (экзистенциал, по-хайдеггеровски), подтверждается «скучными» собаками, улицами, деревьями, лестницами, паутиной, глиной и проч. Когда скука затапливает даже «самые далекие звезды», возникает понимание, что этот мир целиком «состоит из обездоленного вещества». Лишенный самого главного, насущного, мир не может быть домом, отсюда крайне важный для Платонова мотив сиротства и странничества. «Сиротами были все»: и мертвые, которые страдают «в могильном сиротстве», и еще больше живые, которые тоскуют и по мертвым, и по счастью, и по «общему товариществу».
Подобная жизнь в своей основе абсурдна, она есть бред, сон, ошибка или, по ироническому определению Платонова в одной из статей, «похожа на совокупление слепых в крапиве». Как относиться к такой жизни, как ее пережить? Можно как Комягин из «Счастливой Москвы» — «человек ничто», «посторонний», который «не живет, а только замешан в жизни». На нарисованной им (но неоконченной, так как «неконченное» у него все и он сам) картине изображен мужик, который только что встал ото сна, помочился и снова собирается «на покой — спать и не видеть снов, чтоб уже скорее прожить жизнь без памяти». «Если б государство не возражало, я бы тоже так жил», хочет Комягин. Иные герои Платонова юродствуют или сознательно опрощаются, считая «общую жизнь умней своей головы». В «Чевенгуре» это Копенкин и Чепурный, экзистенциальные коммунисты, решающие одним махом устроить коммунизм и тем самым прекратить время, ведь пока «время идет в природе, в человеке стоит тоска».
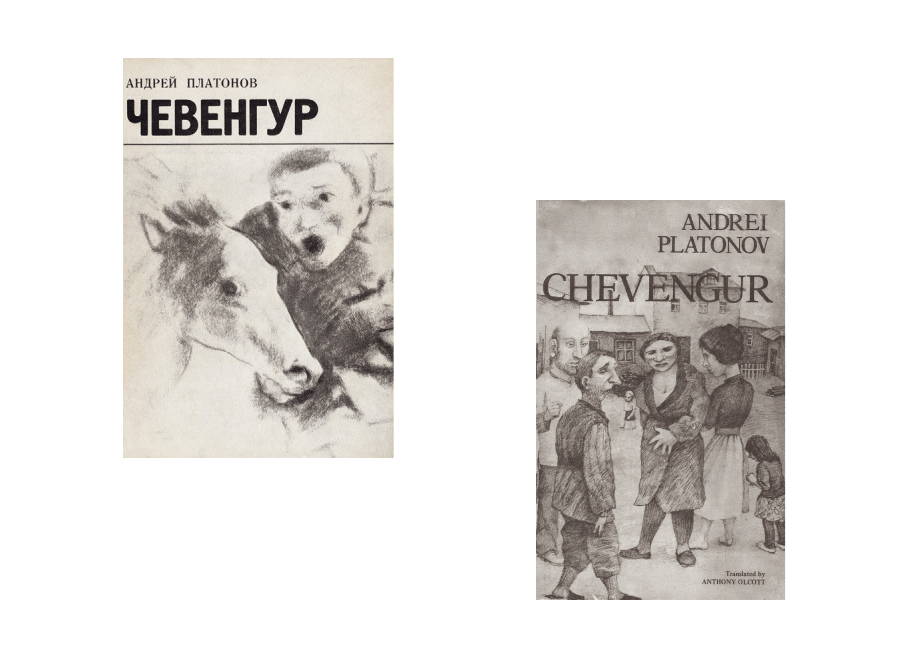
Но наиболее сложным персонажам Платонова отведена более трагическая участь. Они словно застыли между сном и решающей деятельностью. Вулкан их жизни клокочет глубоко внутри. Они то задумчивы (очень частый и важный эпитет у Платонова), то «рыдают по ночам оттого, что жизнь и человек такие, когда так легко можно быть иными и лучшими». Конечно, не легко, а скорее наоборот, невозможно (процитированная фраза как раз из рассказа «Невозможное»). «Человеком быть надоело, ничего не выходит», подытоживает это ощущение лейтенант Зуммер, прозревший фашист из рассказа «По небу полуночи». Невыносимая невозможность любить, понимать, жить, как вулканическая пробка, запечатывает пылающее нутро платоновских одиночек. Они буквально каждое мгновение своей жизни находятся в пограничной ситуации — даже ничего не делая, просто существуя! Неудивительно, что взрыв неизбежен.
И хотя пути они избирают разные, сила их влечет одна. Дванов после краха чевенгурского коммунизма уходит под воду к мертвому отцу, где его ожидает «вечная дружба» и «родина». «Физик космических пространств» Лихтенберг из «Мусорного ветра» развоплощается до «увечного инвалида» и «ненаучного животного», ненужного своей стране. К похожему финалу движется и Сарториус из недописанной «Счастливой Москвы»: в черновиках он жалуется, что душа мучает его, «она бессмысленна», ее «надо разрушить». По-своему вторит ему «душевный бедняк» Евдоким из рассказа «Бучило»: «Дать бы по скуле изобретателю сердца!» Иначе предстают в этом свете и ранние, фаустовские, герои Платонова. Их «сатанинская» преобразовательская деятельность — следствие той же невозможности просто жить, невыносимого страдания и бесконечной тоски, разрывающих изнутри даже любящее сердце, даже природную душу. Они плачут от одного взгляда на звезды или другое живое существо. Поэтому они никогда не остановятся на достигнутом. Предельным выражением этой бьющей изнутри таинственной силы является «жажда нищего» из одноименного рассказа — жажда, которая осталась неутоленной даже после того, как человечество объединилось, покорило вселенную и раскрыло ее тайны. Все это для жажды лишь «капля».
Откуда же исходит эта сила, где коренится? В сокровенном ядре платоновской метафизики, в самых недрах человеческого существа «есть еще кто-то. Этот кто-то, таинственный „он”, часто бормочет, иногда плачет, хочет уйти из тебя куда-то далеко, ему скучно, ему страшно». Это не душа, не сердце, которые «он» «разрушает», тем более не ум, потому что ум есть всего лишь «замершее на миг в своем взлете безумие и хаос». Видимо, параллельно и даже прежде некоторых знаменитых экзистенциалистов (Сартра и Камю) Платонов открывает еще более глубокий источник в человеке, чем традиционные ум и душа, источник, который будет чуть позже описан как экзистенция — существование, предшествующее любой сущности и обреченное на свободу. В нем — корень могущества и грандиозных достижений человека модерна, в нем же, конечно, и причина его бед и страданий. Именно экзистенция говорит тем странным платоновским языком, что на первый взгляд кажется «юродствующим» и «бредовым», но на самом деле адекватно отражает новое, странное и абсурдное, измерение человеческого бытия (подобно тому как ранее высокий библейский стиль выразил откровение нового, трансцендентного, Бога, а тончайшая психология античной лирики — голос проснувшейся человеческой души).
Таким образом, можно сказать, что Модерн значительно расширил представление о человеке (Достоевский, сам немало приложивший к этому руку, хотел даже сузить). Сейчас, в постмодерне, эта ширина кажется чрезмерной, сомнительной, неактуальной. Но она открыта, в том числе Платоновым, и от этого факта нам уже никуда не деться.