История 1 против Истории 2
4 марта 2022 ● "Горький"
Глеб Стукалин — о книге «Провинциализируя Европу».
«Студенты». Ромаре Берден, 1964
На русском вышла книга индийского исследователя Дипеша Чакрабарти о том, как перестать мерить всемирную историю европейской линейкой. Насколько хорошо эта работа подходит для знакомства российского читателя с некоторыми направлениями постколониальной мысли, разбирался Глеб Стукалин.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Дипеш Чакрабарти. Провинциализируя Европу. М.: Издательство «Гараж», 2021. Перевод с английского Петра Бавина.
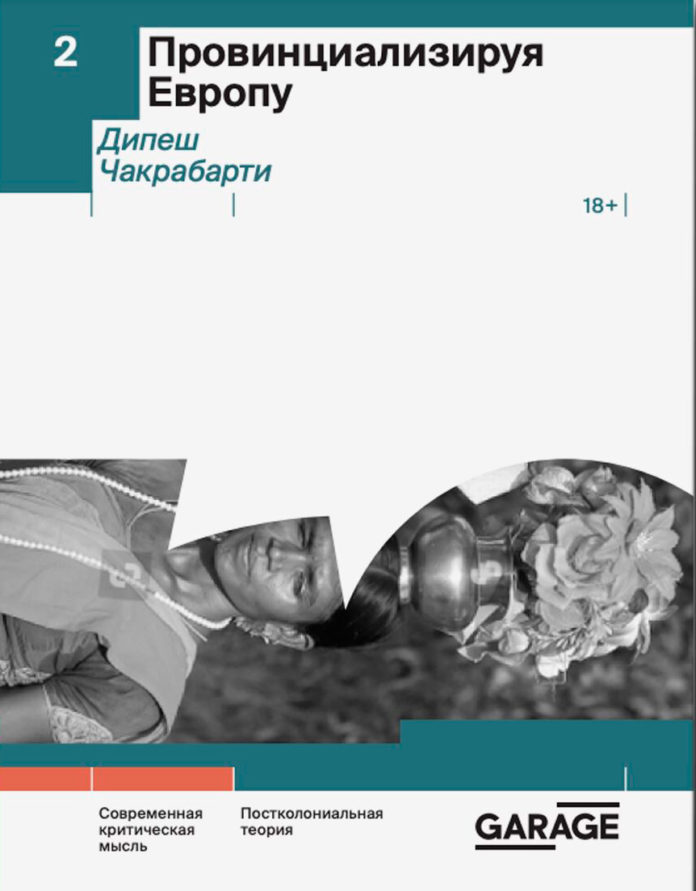
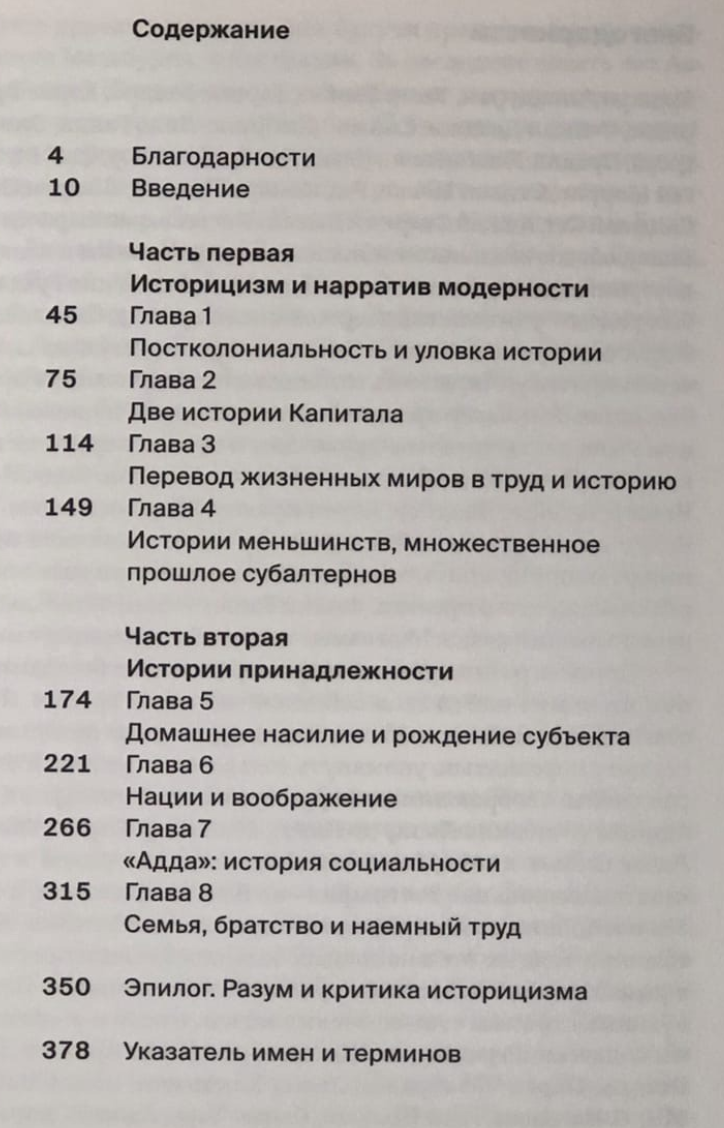
Содержание
На русском языке вышел труд одного из корифеев постколониальной мысли Дипеша Чакрабарти «Провинциализируя Европу». Парой месяцев ранее то же издательство выпустило новый перевод «Ориентализма» Эдварда Саида. Но если работа Саида известна отечественной публике хотя бы потому, что ранее уже была переведена на русский (мягко говоря, не без нареканий), то у влиятельной группы выходцев из Индии, представляющей субальтерные исследования, к которым, помимо Чакрабарти, причисляют Партху Чаттерджи, Сароджини Саху, Гаятри Спивак и др., даже нет странички в русской википедии. Появление на русском языке работы Чакрабарти призвано заполнить лакуну в наших представлениях о субальтерном направлении постколониальной теории.
Здесь неизбежно возникает вопрос: насколько эта книга годится для такой роли? Некоторые сомнения я выскажу в этом тексте.
Постколониальные исследования, появившиеся, что логично, на территориях бывших европейских колоний в Южной Азии, Африке и Латинской Америке, ставят под сомнение господствующие нарративы, понятия и порядки с помощью деконструкции и генеалогического анализа. Дотошный разбор различных материалов, будь то художественные тексты, музейные архивы или устройство государственных институтов, призван показать, как глубоко вросли в плоть глобального мира идеи, которые родились в Западной Европе в специфических обстоятельствах, а затем были привиты колонизируемым обществам с помощью военной силы, проповеди, бюрократического насилия и образования. Понятие «субальтерн», взятое из трудов итальянского марксиста Антонио Грамши, означает индивида или группу, подвергающихся угнетению со стороны многообразных структур власти. Субальтерные исследователи сосредоточились на том, чтобы показать, насколько официальные колониальные историографии слепы к угнетенным колонизированным группам, и продемонстрировать возможные альтернативы мышления об истории.
Идеи постколониальной теории на отечественных просторах в общих чертах известны, но ее аналитический аппарат плохо приживается на наших почвах из-за специфического положения обитателей шестой части суши. С одной стороны, мы, как и остальной земной шар, являемся субальтернами неолиберальной системы, которую первый мир представляет в качестве единственной возможной парадигмы. Мы подстраиваемся под универсальный график капитализма, фетишизируем потребительскую культуру и впитываем образы голливудских фильмов (по крайней мере, недавно это было так).
С другой стороны, ситуация осложняется тем, что попытка противопоставить нечто условной западной парадигме (не тождественной, конечно, неолиберализму) выродилась в людоедский имперский национализм, и именно он является идеологической основой российской политики. Даже интересно, что бы сказал о формах, которую приняла эта основа, Константин Крылов, автор послесловия к первому отечественному изданию «Ориентализма», записавший Эдварда Саида в борцы за русскую идею.
С третьей стороны, особенности российской истории и географии не позволяют механически прикладывать аналитические инструменты, пригодные для истории европейских колониальных империй, а сама идея такого приложения вызывает психологическое сопротивление.
К русскому читателю книга Чакрабарти приходит в чудовищно сложном и конфликтном контексте.
Прежде чем приступить к ее точечному разбору, я бы хотел обратиться к тем, кто книгу переводил и редактировал. Ребята, за что вы так с нами? А с Чакрабарти за что? В хитросплетениях авторской мысли и так непросто разобраться из-за высокой плотности текста и калейдоскопически сменяющих друг друга примеров, но русское изложение окончательно затемняет смысл некоторых пассажей. Уже с первой строчки введения читатель понимает, что издательский коллектив не договорился о том, как именно называется книга. Переводчик капитулировал перед словами modern и subaltern. «Историцизм» и «историзм» произвольно меняются местами. Кое-где текст механически калькируется с оригинала, и тогда удивленный читатель узнает, что «санскритское слово „гадья“... являлось ответвлением слова „кавья“», а «приверженность гетерогенности... означает упустить» (строка, достойная Егора Летова). Хотя в русском языке благодаря изучению творчества Рабиндраната Тагора существует устойчивая традиция транскрипции бенгальских имен, текст плюет в лицо общественным устоям и выдает самые странные буквосочетания. Нас также оставили без вступления к обновленному изданию 2007 года, которое проясняет процесс и контекст написания книги. В итоге мы получили печальный памятник издательской некомпетентности.
Вылив яд, можно, наконец, поведать и о содержании книги. Первая ее часть посвящена критике историцистского подхода, и в том числе марксистского анализа исторических процессов, от которого отталкивались субальтерные исследователи. Автор на множестве примеров раскрывает колониальную логику историцизма: позитивистский подход, рассматривающий время как пустой гомогенный однонаправленный поток, вырос из европейской философии. Брезгуя обличениями, автор дает слово светочам западной мысли:
«В венской лекции 1935 года <...> [Гуссерль] предположил, что фундаментальное различие между „восточными философиями“ (говоря точнее, индийской и китайской) и „греческо-европейской наукой“ (или, добавляет он, „вообще говоря, философией“) состояло в способности последней производить „абсолютные теоретические воззрения“, то есть theoria (универсальную науку). Первые сохраняли „универсальную практическую установку“, и, следовательно, „религиозно-мифический характер“».
Сложно не увидеть насмешливо снисходительного отношения колонизатора к «наивным» построениям покоренных туземцев. Это снисхождение есть и в марксизме, который объявляет «пережитками» все, что не укладывается в стройные рамки общественных формаций. Просвещенный европеец мыслит жизнь в колониях по принципу «еще не»: несчастные дикари точно так же, как и мы, достойны самостоятельного государства и эффективных институтов управления, но они «еще не» готовы. Сначала их надо просветить на европейский манер, приучить ко всем нашим идеям, манерам и привычкам. Этот нарратив можно встретить в рассуждениях практически любого европейского автора о любом неевропейском регионе, будь то Африка, Южная Азия, Китай или Россия (а у нас, в России, похожий пренебрежительный тон мы постоянно слышим в отношении Северного Кавказа, Центральной Азии и, как выяснилось, в особо извращенной манере в отношении «братских» народов).
Вместе с тем, замечает Чакрабарти, множество «туземных» социальных практик, которые просвещенный европейский ум окрестил бы варварской архаикой, обладают недюжинной витальностью. Такие явления живут в ином, «неевропейском» настоящем. В качестве примеров — достаточно странных, на мой взгляд, — автор говорит о том, как образованные бенгальские семьи толкут специи в каменных ступках, которые прекрасно сочетаются с электроплитками и кондиционерами современных кондоминиумов, а также приводит анекдот, где нобелевский лауреат Чандрасекхара Раман после дискуссии о философии Рассела идет совершать индуистский обряд пуджу. Клеймо архаики попросту не объясняет устойчивость этих явлений.
Неизбывный колониализм окружающего мира, по Чакрабарти, очевиден в том, как много внимания мы уделяем изучению европейского наследия и сколь мало — иным традициям. Если это внимание и возрастает, то не для того, чтобы вступить с неевропейской мыслью в диалог, а лишь ради ее «исторического», музейного изучения. Это касается не только западных исследователей, но и исследователей «на местах».
«Столкнувшись с задачей анализа развития социальных практик в Индии в Новое время, немногие существующие индийские обществоведы или специалисты, занимающиеся Индией, стали бы серьезно спорить, скажем, с Ганешей — логиком XIII века, Бхартрихари — грамматиком и философом-лингвистом V-VI веков, или с Абхинавагуптой — эстетиком X-XI веков. Как это ни печально, но одним из итогов колониального правления Южной Азии стало то, что интеллектуальные традиции, выживавшие и поддерживавшиеся на санскрите, фарси или арабском языке, остались для большинства — а возможно, и для всех работающих в этом регионе современных обществоведов — лишь предметом исторических исследований».
Итак, для европейского исследователя время гомогенно, оно состоит из истории Европы и историй иных регионов, которые комментируют эту главную историю и играют с ней в догонялки (автор предусмотрительно оговаривает, что в целях философского поиска обращается к образам воображаемых «Европы» и «Индии», которые интуитивно понятны; нет смысла спорить о конкретных географических границах — такой спор изначально беспочвенен, если смотреть из Бенгалии). Другие регионы возникают в истории тогда, когда вступают в контакт с Европой. Иными словами, в универсалистской истории Америка возникает в момент ее открытия Колумбом. (Тут недурно бы передохнуть и вспомнить, когда в учебнике истории России впервые мелькает, например, Казань — не в момент ли взятия войсками Ивана Грозного? А Тыва — э-э, в 1940-х, в момент присоединения к РСФСР?) Но для колонизированного субъекта универсалистский подход теряет свою универсальность, и мы ступаем на зыбкую почву алогичных на первый взгляд суждений. Бенгальские крестьяне подняли восстание? Крестьяне подняли восстание в ответ на усиление эксплуатации? Но сами крестьяне говорят о другом: они не поднимали восстания, ими руководил их бог.
Чакрабарти предлагает отступить от социологизирующих объяснений (дескать, религиозные пережитки выражают социальные отношения) и попытаться встать на точку зрения бенгальского крестьянина, которому чужда европейская модерность. Для этой цели, говорит автор, в исторических исследованиях необходимо ввести понятия Истории 1 и Истории 2. История 1 — та самая универсальная гомогенная временная линейка, по которой движутся все события и регионы в абстрактной логике капитала. А История 2 — многоголосая фуга местных жизненных миров, в каждом из которых логика капитала преломляется до неузнаваемости. Такое различение не отменяет марксистского подхода полностью, но позволяет исправить его колониальные перегибы.
Если первая часть, несмотря на размытость рассуждений и зыбкость отдельных аргументов, оправдывает название книги (напомним, «Провинциализируя Европу»), то дальше читателя ждет разочарование. Вторая часть книги посвящена становлению бенгальской интеллигенции. И этот поворот обескураживает. Получается, что в начале Чакрабарти рассуждает о важности немодерного суждения, о разнице модернов в Европе и в Индии, где внешне схожий общественный договор современного национального государства построен на кардинально разных фундаментах. А затем он решает подкрепить свои выкладки рассказом об очень узкой прослойке высококастовых бенгальцев, которые в XIX веке служили активными проводниками модернистской идеологии и выстраивали антиколониальный нарратив на пафосе европейского Просвещения. Неужели вся история Бенгалии сводится к наследию Рабиндраната Тагора (хочется съязвить: «Пушкин наше всё!»)? Конечно, автор сам относится к узкой прослойке бенгальской интеллигенции и имеет моральное право говорить от ее лица. Но включил ли он в свое изложение хоть один голос субальтерна, противостоящего модерности? К моменту выхода «Провинциализируя Европу» (2000 год) уже стала общим местом критика субальтерных исследований, зародившихся в начале 1980-х, за то, что в них остались лишь «исследования», причем посвященные неевропейским элитам и литературе. Эта критика уместна и в случае с Чакрабарти.
Вторая часть книги может заинтересовать в России лишь немногочисленную аудиторию: даже не всех индологов, но лишь часть бенгалистов (возможно, я даже смог бы перечислить их поименно). К тому же Чакрабарти описывает ситуацию чрезвычайно скупо — подразумевается, что читатели и так в курсе, о чем идет речь. Даже большая глава, посвященная практикам адды, — дискуссионным собраниям, вплетенным в ткань городской жизни Калькутты, не может похвастаться детальным описанием того, что, собственно, представляли собой эти собрания. В них рождались демократические практики! — восклицает автор. Но чем они принципиально отличаются от персидских поэтических баттлов в кахвеханах, французских салонов, английских газетных клубов или даже дагестанских годеканов? Почему именно эти якобы демократические дискуссионные клубы являются столь важной вехой в становлении бенгальского самосознания? Скупая фактология вызывает слишком много вопросов.
Странности книги Чакрабарти во многом объясняются тем, что это лишь реплика в долгой дискуссии внутри школы субальтерных исследований. Автор спорит с двумя аудиториями. Во-первых, это широкая интеллектуальная публика Бенгалии, которая некритично и даже с некоторой долей сакрализации восприняла идеи марксизма — так полагает Чакрабарти, который рос в кипучей атмосфере калькуттского левого студенчества, но в эмиграции увидел его со стороны (см. утерянное предисловие 2007 года). Во-вторых, это коллеги-историки, занимающиеся Южной Азией. Читать «Провинциализируя Европу» без понимания, на какие доводы из научной литературы 1990-х реагирует автор, — та еще затея.
Почему из всех субальтерных исследований прежде всего издана именно эта работа? Какова ее миссия в России? Как она будет использоваться? Постколониальная критика первой части еще может оживить дискуссию в стенах студенческой столовой (мы разобрали лишь толику аргументов), хотя вникнуть в суть тем, кто не знаком с историческими трудами, к примеру, Ричарда Итона и Карла Эрнста, будет сложно (индологам должно быть проще). Изобилие фактов из жизни бенгальской интеллигенции XIX века может ввергнуть неподготовленного читателя в ступор и повлечь за собой еще большую экзотизацию материала. Ну а чтобы шапочно познакомить русскоязычного читателя с наследием школы субальтерных исследований, хватит, кажется, и одного названия книги.
В заключение я бы хотел обратить внимание издательского коллектива «Гаража» на пару книг — если, конечно, речь идет о подлинном стремлении восполнить интеллектуальные лакуны, а не о переводе модной книги ради прогрессивного имиджа. У «Элементарных аспектов крестьянского восстания в колониальной Индии» (1983) Ранаджиты Гухи унылое академическое название, зато внутри — подробный анализ с постмарксистских позиций любопытного исторического материала, который собирался по крупицам в архивах. Это ранняя работа автора, с тех пор субальтерные исследования проделали большой путь, но она авторитетна и ее интересно читать.
Еще больше подходит для первого знакомства обзорный труд Лилы Ганди «Критическое введение в постколониальную теорию» (1998). Исследовательница подробно разбирает главные точки напряжения постколониальной и деколониальной мысли (постколониализм vs марксизм, постколониализм vs феминизм и т. п.), простым языком объясняет теоретические нюансы и терминологические ловушки. Кроме того, она литературоцентрична: большинство примеров взяты из известных книг — например, «Детей полуночи» Салмана Рушди и «Бога мелочей» Арундати Рой. Также неплохо подошло бы эссе Гаятри Спивак «Может ли субальтерн говорить?» (1988) — до начала так называемой военной операции в Украине планировалось, что эта работа выйдет в издательстве V-A-C в 2022 году.
Вот такие соображения.
На русском вышла книга индийского исследователя Дипеша Чакрабарти о том, как перестать мерить всемирную историю европейской линейкой. Насколько хорошо эта работа подходит для знакомства российского читателя с некоторыми направлениями постколониальной мысли, разбирался Глеб Стукалин.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Дипеш Чакрабарти. Провинциализируя Европу. М.: Издательство «Гараж», 2021. Перевод с английского Петра Бавина.
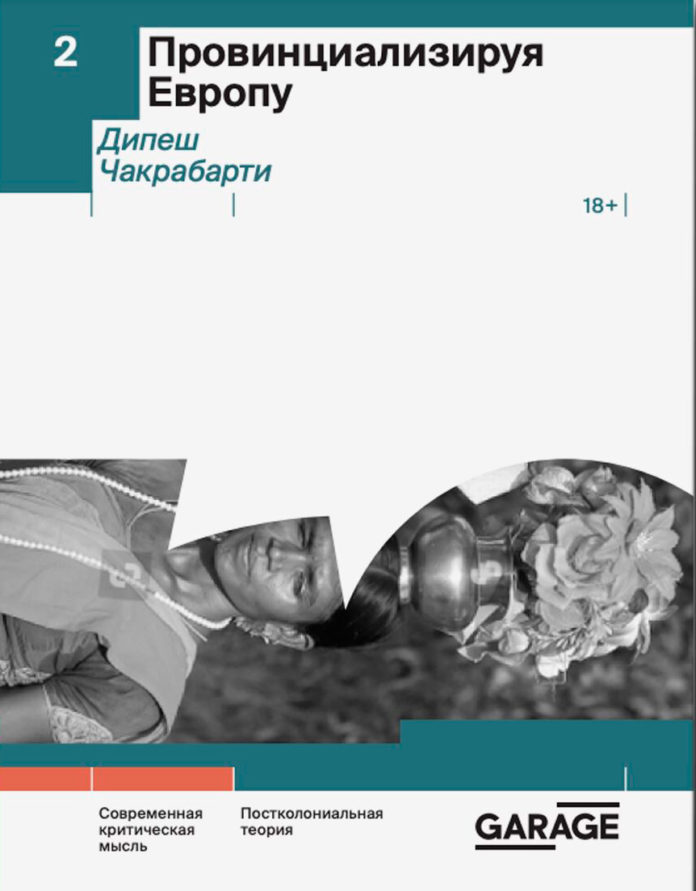
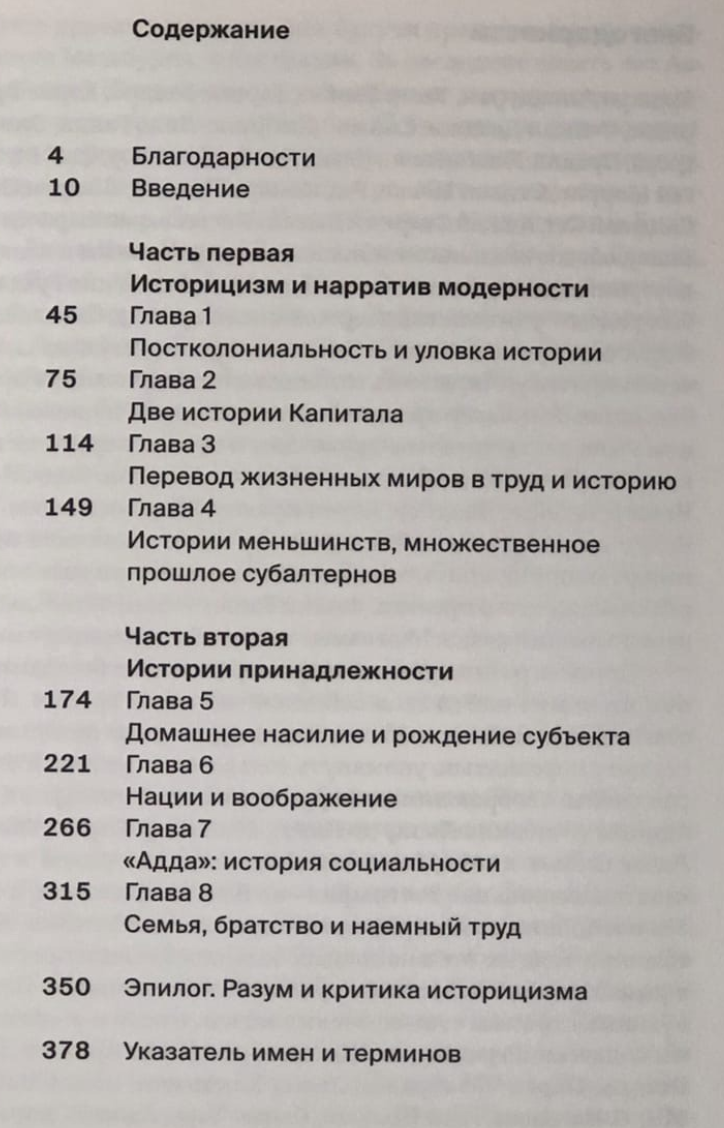
Содержание
На русском языке вышел труд одного из корифеев постколониальной мысли Дипеша Чакрабарти «Провинциализируя Европу». Парой месяцев ранее то же издательство выпустило новый перевод «Ориентализма» Эдварда Саида. Но если работа Саида известна отечественной публике хотя бы потому, что ранее уже была переведена на русский (мягко говоря, не без нареканий), то у влиятельной группы выходцев из Индии, представляющей субальтерные исследования, к которым, помимо Чакрабарти, причисляют Партху Чаттерджи, Сароджини Саху, Гаятри Спивак и др., даже нет странички в русской википедии. Появление на русском языке работы Чакрабарти призвано заполнить лакуну в наших представлениях о субальтерном направлении постколониальной теории.
Здесь неизбежно возникает вопрос: насколько эта книга годится для такой роли? Некоторые сомнения я выскажу в этом тексте.
Постколониальные исследования, появившиеся, что логично, на территориях бывших европейских колоний в Южной Азии, Африке и Латинской Америке, ставят под сомнение господствующие нарративы, понятия и порядки с помощью деконструкции и генеалогического анализа. Дотошный разбор различных материалов, будь то художественные тексты, музейные архивы или устройство государственных институтов, призван показать, как глубоко вросли в плоть глобального мира идеи, которые родились в Западной Европе в специфических обстоятельствах, а затем были привиты колонизируемым обществам с помощью военной силы, проповеди, бюрократического насилия и образования. Понятие «субальтерн», взятое из трудов итальянского марксиста Антонио Грамши, означает индивида или группу, подвергающихся угнетению со стороны многообразных структур власти. Субальтерные исследователи сосредоточились на том, чтобы показать, насколько официальные колониальные историографии слепы к угнетенным колонизированным группам, и продемонстрировать возможные альтернативы мышления об истории.
Идеи постколониальной теории на отечественных просторах в общих чертах известны, но ее аналитический аппарат плохо приживается на наших почвах из-за специфического положения обитателей шестой части суши. С одной стороны, мы, как и остальной земной шар, являемся субальтернами неолиберальной системы, которую первый мир представляет в качестве единственной возможной парадигмы. Мы подстраиваемся под универсальный график капитализма, фетишизируем потребительскую культуру и впитываем образы голливудских фильмов (по крайней мере, недавно это было так).
С другой стороны, ситуация осложняется тем, что попытка противопоставить нечто условной западной парадигме (не тождественной, конечно, неолиберализму) выродилась в людоедский имперский национализм, и именно он является идеологической основой российской политики. Даже интересно, что бы сказал о формах, которую приняла эта основа, Константин Крылов, автор послесловия к первому отечественному изданию «Ориентализма», записавший Эдварда Саида в борцы за русскую идею.
С третьей стороны, особенности российской истории и географии не позволяют механически прикладывать аналитические инструменты, пригодные для истории европейских колониальных империй, а сама идея такого приложения вызывает психологическое сопротивление.
К русскому читателю книга Чакрабарти приходит в чудовищно сложном и конфликтном контексте.
Прежде чем приступить к ее точечному разбору, я бы хотел обратиться к тем, кто книгу переводил и редактировал. Ребята, за что вы так с нами? А с Чакрабарти за что? В хитросплетениях авторской мысли и так непросто разобраться из-за высокой плотности текста и калейдоскопически сменяющих друг друга примеров, но русское изложение окончательно затемняет смысл некоторых пассажей. Уже с первой строчки введения читатель понимает, что издательский коллектив не договорился о том, как именно называется книга. Переводчик капитулировал перед словами modern и subaltern. «Историцизм» и «историзм» произвольно меняются местами. Кое-где текст механически калькируется с оригинала, и тогда удивленный читатель узнает, что «санскритское слово „гадья“... являлось ответвлением слова „кавья“», а «приверженность гетерогенности... означает упустить» (строка, достойная Егора Летова). Хотя в русском языке благодаря изучению творчества Рабиндраната Тагора существует устойчивая традиция транскрипции бенгальских имен, текст плюет в лицо общественным устоям и выдает самые странные буквосочетания. Нас также оставили без вступления к обновленному изданию 2007 года, которое проясняет процесс и контекст написания книги. В итоге мы получили печальный памятник издательской некомпетентности.
Вылив яд, можно, наконец, поведать и о содержании книги. Первая ее часть посвящена критике историцистского подхода, и в том числе марксистского анализа исторических процессов, от которого отталкивались субальтерные исследователи. Автор на множестве примеров раскрывает колониальную логику историцизма: позитивистский подход, рассматривающий время как пустой гомогенный однонаправленный поток, вырос из европейской философии. Брезгуя обличениями, автор дает слово светочам западной мысли:
«В венской лекции 1935 года <...> [Гуссерль] предположил, что фундаментальное различие между „восточными философиями“ (говоря точнее, индийской и китайской) и „греческо-европейской наукой“ (или, добавляет он, „вообще говоря, философией“) состояло в способности последней производить „абсолютные теоретические воззрения“, то есть theoria (универсальную науку). Первые сохраняли „универсальную практическую установку“, и, следовательно, „религиозно-мифический характер“».
Сложно не увидеть насмешливо снисходительного отношения колонизатора к «наивным» построениям покоренных туземцев. Это снисхождение есть и в марксизме, который объявляет «пережитками» все, что не укладывается в стройные рамки общественных формаций. Просвещенный европеец мыслит жизнь в колониях по принципу «еще не»: несчастные дикари точно так же, как и мы, достойны самостоятельного государства и эффективных институтов управления, но они «еще не» готовы. Сначала их надо просветить на европейский манер, приучить ко всем нашим идеям, манерам и привычкам. Этот нарратив можно встретить в рассуждениях практически любого европейского автора о любом неевропейском регионе, будь то Африка, Южная Азия, Китай или Россия (а у нас, в России, похожий пренебрежительный тон мы постоянно слышим в отношении Северного Кавказа, Центральной Азии и, как выяснилось, в особо извращенной манере в отношении «братских» народов).
Вместе с тем, замечает Чакрабарти, множество «туземных» социальных практик, которые просвещенный европейский ум окрестил бы варварской архаикой, обладают недюжинной витальностью. Такие явления живут в ином, «неевропейском» настоящем. В качестве примеров — достаточно странных, на мой взгляд, — автор говорит о том, как образованные бенгальские семьи толкут специи в каменных ступках, которые прекрасно сочетаются с электроплитками и кондиционерами современных кондоминиумов, а также приводит анекдот, где нобелевский лауреат Чандрасекхара Раман после дискуссии о философии Рассела идет совершать индуистский обряд пуджу. Клеймо архаики попросту не объясняет устойчивость этих явлений.
Неизбывный колониализм окружающего мира, по Чакрабарти, очевиден в том, как много внимания мы уделяем изучению европейского наследия и сколь мало — иным традициям. Если это внимание и возрастает, то не для того, чтобы вступить с неевропейской мыслью в диалог, а лишь ради ее «исторического», музейного изучения. Это касается не только западных исследователей, но и исследователей «на местах».
«Столкнувшись с задачей анализа развития социальных практик в Индии в Новое время, немногие существующие индийские обществоведы или специалисты, занимающиеся Индией, стали бы серьезно спорить, скажем, с Ганешей — логиком XIII века, Бхартрихари — грамматиком и философом-лингвистом V-VI веков, или с Абхинавагуптой — эстетиком X-XI веков. Как это ни печально, но одним из итогов колониального правления Южной Азии стало то, что интеллектуальные традиции, выживавшие и поддерживавшиеся на санскрите, фарси или арабском языке, остались для большинства — а возможно, и для всех работающих в этом регионе современных обществоведов — лишь предметом исторических исследований».
Итак, для европейского исследователя время гомогенно, оно состоит из истории Европы и историй иных регионов, которые комментируют эту главную историю и играют с ней в догонялки (автор предусмотрительно оговаривает, что в целях философского поиска обращается к образам воображаемых «Европы» и «Индии», которые интуитивно понятны; нет смысла спорить о конкретных географических границах — такой спор изначально беспочвенен, если смотреть из Бенгалии). Другие регионы возникают в истории тогда, когда вступают в контакт с Европой. Иными словами, в универсалистской истории Америка возникает в момент ее открытия Колумбом. (Тут недурно бы передохнуть и вспомнить, когда в учебнике истории России впервые мелькает, например, Казань — не в момент ли взятия войсками Ивана Грозного? А Тыва — э-э, в 1940-х, в момент присоединения к РСФСР?) Но для колонизированного субъекта универсалистский подход теряет свою универсальность, и мы ступаем на зыбкую почву алогичных на первый взгляд суждений. Бенгальские крестьяне подняли восстание? Крестьяне подняли восстание в ответ на усиление эксплуатации? Но сами крестьяне говорят о другом: они не поднимали восстания, ими руководил их бог.
Чакрабарти предлагает отступить от социологизирующих объяснений (дескать, религиозные пережитки выражают социальные отношения) и попытаться встать на точку зрения бенгальского крестьянина, которому чужда европейская модерность. Для этой цели, говорит автор, в исторических исследованиях необходимо ввести понятия Истории 1 и Истории 2. История 1 — та самая универсальная гомогенная временная линейка, по которой движутся все события и регионы в абстрактной логике капитала. А История 2 — многоголосая фуга местных жизненных миров, в каждом из которых логика капитала преломляется до неузнаваемости. Такое различение не отменяет марксистского подхода полностью, но позволяет исправить его колониальные перегибы.
Если первая часть, несмотря на размытость рассуждений и зыбкость отдельных аргументов, оправдывает название книги (напомним, «Провинциализируя Европу»), то дальше читателя ждет разочарование. Вторая часть книги посвящена становлению бенгальской интеллигенции. И этот поворот обескураживает. Получается, что в начале Чакрабарти рассуждает о важности немодерного суждения, о разнице модернов в Европе и в Индии, где внешне схожий общественный договор современного национального государства построен на кардинально разных фундаментах. А затем он решает подкрепить свои выкладки рассказом об очень узкой прослойке высококастовых бенгальцев, которые в XIX веке служили активными проводниками модернистской идеологии и выстраивали антиколониальный нарратив на пафосе европейского Просвещения. Неужели вся история Бенгалии сводится к наследию Рабиндраната Тагора (хочется съязвить: «Пушкин наше всё!»)? Конечно, автор сам относится к узкой прослойке бенгальской интеллигенции и имеет моральное право говорить от ее лица. Но включил ли он в свое изложение хоть один голос субальтерна, противостоящего модерности? К моменту выхода «Провинциализируя Европу» (2000 год) уже стала общим местом критика субальтерных исследований, зародившихся в начале 1980-х, за то, что в них остались лишь «исследования», причем посвященные неевропейским элитам и литературе. Эта критика уместна и в случае с Чакрабарти.
Вторая часть книги может заинтересовать в России лишь немногочисленную аудиторию: даже не всех индологов, но лишь часть бенгалистов (возможно, я даже смог бы перечислить их поименно). К тому же Чакрабарти описывает ситуацию чрезвычайно скупо — подразумевается, что читатели и так в курсе, о чем идет речь. Даже большая глава, посвященная практикам адды, — дискуссионным собраниям, вплетенным в ткань городской жизни Калькутты, не может похвастаться детальным описанием того, что, собственно, представляли собой эти собрания. В них рождались демократические практики! — восклицает автор. Но чем они принципиально отличаются от персидских поэтических баттлов в кахвеханах, французских салонов, английских газетных клубов или даже дагестанских годеканов? Почему именно эти якобы демократические дискуссионные клубы являются столь важной вехой в становлении бенгальского самосознания? Скупая фактология вызывает слишком много вопросов.
Странности книги Чакрабарти во многом объясняются тем, что это лишь реплика в долгой дискуссии внутри школы субальтерных исследований. Автор спорит с двумя аудиториями. Во-первых, это широкая интеллектуальная публика Бенгалии, которая некритично и даже с некоторой долей сакрализации восприняла идеи марксизма — так полагает Чакрабарти, который рос в кипучей атмосфере калькуттского левого студенчества, но в эмиграции увидел его со стороны (см. утерянное предисловие 2007 года). Во-вторых, это коллеги-историки, занимающиеся Южной Азией. Читать «Провинциализируя Европу» без понимания, на какие доводы из научной литературы 1990-х реагирует автор, — та еще затея.
Почему из всех субальтерных исследований прежде всего издана именно эта работа? Какова ее миссия в России? Как она будет использоваться? Постколониальная критика первой части еще может оживить дискуссию в стенах студенческой столовой (мы разобрали лишь толику аргументов), хотя вникнуть в суть тем, кто не знаком с историческими трудами, к примеру, Ричарда Итона и Карла Эрнста, будет сложно (индологам должно быть проще). Изобилие фактов из жизни бенгальской интеллигенции XIX века может ввергнуть неподготовленного читателя в ступор и повлечь за собой еще большую экзотизацию материала. Ну а чтобы шапочно познакомить русскоязычного читателя с наследием школы субальтерных исследований, хватит, кажется, и одного названия книги.
В заключение я бы хотел обратить внимание издательского коллектива «Гаража» на пару книг — если, конечно, речь идет о подлинном стремлении восполнить интеллектуальные лакуны, а не о переводе модной книги ради прогрессивного имиджа. У «Элементарных аспектов крестьянского восстания в колониальной Индии» (1983) Ранаджиты Гухи унылое академическое название, зато внутри — подробный анализ с постмарксистских позиций любопытного исторического материала, который собирался по крупицам в архивах. Это ранняя работа автора, с тех пор субальтерные исследования проделали большой путь, но она авторитетна и ее интересно читать.
Еще больше подходит для первого знакомства обзорный труд Лилы Ганди «Критическое введение в постколониальную теорию» (1998). Исследовательница подробно разбирает главные точки напряжения постколониальной и деколониальной мысли (постколониализм vs марксизм, постколониализм vs феминизм и т. п.), простым языком объясняет теоретические нюансы и терминологические ловушки. Кроме того, она литературоцентрична: большинство примеров взяты из известных книг — например, «Детей полуночи» Салмана Рушди и «Бога мелочей» Арундати Рой. Также неплохо подошло бы эссе Гаятри Спивак «Может ли субальтерн говорить?» (1988) — до начала так называемой военной операции в Украине планировалось, что эта работа выйдет в издательстве V-A-C в 2022 году.
Вот такие соображения.