Хемингуэй — это не всегда комплимент
24 апреля 2019 ● "Горький"
Спорная книга: Захар Прилепин «Некоторые не попадут в ад».
Постоянный автор «Горького» Василий Владимирский внимательно следит за рецензиями на важнейшие отечественные и переводные новинки и раз в неделю представляет вашему вниманию дайджест в рубрике «Спорная книга». Сегодня речь пойдет о новом романе Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад».
Захар Прилепин. Некоторые не попадут в ад. М.: АСТ, 2019

Свежая книга Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад» — воспоминания о двух годах, которые писатель посвятил войне на Донбассе. Там он находился в роли замполита в батальоне Народной милиции ДНР, так что перед нами своего рода мемуары по свежим следам. В то же время книга носит подзаголовок «роман-фантасмагория» — тут кроется главное противоречие, за которое дружно ухватились наши книжные обозреватели. Сквозная тема большинства рецензий — степень автобиографичности и документальности этой «фантасмагории»: критики увлеченно спорят, где заканчивается художественный вымысел и начинается чистая мемуаристика, пытаются определить, насколько Прилепин-лирический герой сопоставим с Прилепиным-автором. Его сравнивают с Хлестаковым и Мюнхгаузеном, Тарасом Бульбой и Тилем Уленшпигелем, Пушкиным, Львом Толстым и особенно часто — с Хемингуэем (последнее не всегда звучит как комплимент). Мнения журналистов предсказуемо разделились, но одно из всех этих рецензий очевидно: «Некоторые...» целиком и полностью держатся именно на личности автора — и это главный стержень всего романа. Так что если личность Захара Прилепина вам малоинтересна, не вызывает взрыва эмоций — восхищения и умиления или, наоборот, отвращения и ненависти, — то и книга, скорее всего, мимо. Напомним, что «Горький» писал об этой книге.
Галина Юзефович в рецензии «„Некоторые не попадут в ад: Роман-фантасмагория” Захар Прилепин написал о себе и о войне в Донбассе (о себе — намного больше)» («Медуза») перечисляет ключевые темы, которые мог бы затронуть в этом романе автор, но пока не рискнул:
«Главный вопрос, который остается у Прилепина вынесенным за скобки, это, как ни банально, причины происходящего — не в прагматичном ключе, насколько велико там российское военное присутствие (если верить Прилепину, невелико), а в каком-то более глубоком, философском, если угодно, смысле. Почему люди, сами считающие себя украинцами (таких, как пишет автор, в Донецке и Луганске большинство), оказались по разные стороны фронта, чем так плох и опасен „наш несчастный неприятель” (этим кодовым оборотом в книге обозначается украинская сторона конфликта), за что сражаются сепаратисты и что же, в конце концов, привело на чужую войну нижегородца Прилепина — все это ни в какой момент не становится темой сколько-нибудь искреннего разговора. Автор сообщает, что верил в никем не признанную республику „как в свет собственного детства, как в отца, как в первую любовь, как в любимое стихотворение, как в молитву, которая помогла в страшный час”, но дешифровать символ этой веры нам не суждено. Периодически кажется, что вот сейчас, сейчас автор соберется с силами и заговорит наконец о важном, но нет: каждый раз он словно намеренно сбивает серьезный настрой то грубоватой шуткой, то резкой сменой темы.
Оставляя незаполненным глубинный, смысловой (а потому самый, вероятно, мучительный и травматичный — в том числе для него самого) слой происходящего в Донбассе, Прилепин обращается к уровню, так сказать, поверхностному, описательному. И вот тут-то и начинаются проблемы — не скажешь даже, этические или все же скорее художественные. „Нормальным людям сложно отказаться, когда можно раскрутить невиданную карусель и самому на ней прокатиться” — примерно так, с разными вариациями, формулирует Прилепин мотивацию своих товарищей по оружию. „Надо, чтоб всегда было весело”, „меня забавляло”, „я валял дурака, а это важное занятие” — намеренно паясничая и демонстративно умалчивая о главном (о том, как же все так вышло и чем закончится), автор пытается вести себя на манер трагического героя, прячущего за веселым балагурством бездны непроговоренной боли...»
Евгений Фатеев в рецензии «Война рассказала себя» («Завтра») предлагает свое объяснения этой сбивчивости, скорописи, описательности:
«Странная, еще далеко не закончившаяся война на Донбассе, рассказала саму себя. Лично мне про нее стало все ясно. Она уже случилась где-то внутри. Все последующие события будут только догонять уже бесповоротно случившееся. Грядущим последующим событиям придется догонять авторскую, очень прилепинскую скоропись саморассказа этой войны. Автор выдал пример исповедальной скорописи. Наверное, исповеди не могут быть размеренными, неспешными. Исповеди — скорые, часто сбивчивые. Там всегда и всё очень сложно. После этой книги Прилепина уже нельзя воткнуть в дурацкие матрицы дешевой медийной драмы. Очень чувствуется, что ему нужно было объясниться. Он это сделал блестяще. Теперь публике придется постараться понять. И догнать. <...>

У Захара Прилепина получилось создать особенные, скорые мемуары. Это неправильные мемуары. Книга — вопиюще сегодняшняя и здешняя, даже сиюминутная. Это мемуары о мгновении, поминание исторического мига, в который однако уместилось все самое главное. И странное, долгое противо-стояние в этой войне лишь поверхностно напоминает что-то похожее из времен Первой мировой войны. Тут что-то другое. Что-то ментальное, душевное, внутреннее, необычайно образное, точное, обладающее отчетливым настроением...»
Алексей Колобродов в рецензии «Несвоевременный роман, который очень вовремя» («Взгляд») говорит о ловушках, в которые попались первые рецензенты:
«„Некоторые не попадут в ад” — текст очень личный, сделанный в редком жанре „романа-переживания”. История войны за независимость в Донбассе, „донбасская герилья”, как ее называет автор, для Прилепина — факт не литературной, а человеческой биографии. В глубоком переживании отсутствует хроникальная точность — время вообще превращается в подобие бороды из лески на удочке незадачливого удильщика, — где можно тянуть за любой конец в непрочной надежде распутать и разрешить... Уже по сборнику „Семь жизней” стало понятно, что прилепинской натуре, жадной до жизни в главных ее проявлениях, категорически мало литературы. „Захар ушел путем воина” — писал тогда я. <...>
Подзаголовок „роман-фантасмагория” должен опровергать тезис о подлинности, но в романе и его времени, где всё нелинейно, литература рождается из войны и политики, а жанры — из застольного планирования. <...>
Нереализованный политический сценарий — всегда фантасмагория; в этот разряд, увы, попали и проект „Новороссия”, и проект „Малороссия”, умножаясь в количестве, фантасмагорические сценарии составили роман-фантасмагорию. Но при подобном раскладе, не есть ли само существование независимых русских республик на Юго-Востоке Украины такой же фантасмагорией, осуществленной вопреки всему и уже не отменяемой?..»
Андрей Рудалев в рецензии «Книга, записанных в рай» («Свободная пресса») восторгается не столько новой книгой, сколько масштабом личности шеф-редактора «Свободной прессы», и пишет о «романе-фантасмагории» как об опыте литературного самообнажения (орфография и пунктуация сохранены):
«Воин и писатель. Именно об этом пути мечтал великий Эмир Кустурица и завороженный смотрел на Захара, может, хотел разглядеть вариант и своей потенциальной, но нереализованной судьбы?.. Ах да, еще и открыватель новых земель. Ищет их, чтобы можно было мечту найти или воплотить. Нет, не Китеж-граж и не Беловодье, а земное и человечное. <...>
Мечта, воплощенная в непризнанном государстве, в которое „верил как в свет собственного детства, как в отца, как в первую любовь, как в любимое стихотворение, как в молитву, которая помогла в страшный час...”. Там у него вновь засветилось детство с желанием похулиганить, путать карты в серьезных раскладах. Там мелькнул у него образ отца, а сам он повторял „Батя”. Отца, который вновь подбросил вверх, чтобы вместе не пропасть. Там он вновь влюблялся и венчался. Читал молитвы и стихи и вглядывался в тот самый страшный час, буровил его глазами. И все это вместе дает право сказать главное: вера моя через горнило сомнений прошла. Горнило — это и переживание „распада части серьезных иллюзий”. Можно сказать, что автор сам себя поместил на соловецкую Секирку и обнажился полностью, оттого и книга необычайно личная...»
Михаил Визель в рецензии «Прилепин. Возвращение из фантасмагории» («Год литературы») размышляет о том, как попытка Прилепина окунуться в гущу жизни обернулась возвращением в мир литературы кружным путем:
«Прилепин на протяжении всей своей писательской карьеры бежит прочь от литературы — к жизни. Ради чего и поехал на Донбасс. <...>
Прилепин, похоже, искренне хотел стать частью чего-то большого и важного, стоять плечом к плечу с лидерами „русской весны”, в первую очередь — c редко называемым по имени Главой, то есть Александром Захарченко, памяти которого книга во многом посвящена. В этих людях Прилепин — писатель же! — прозревал извечных русских героев: князя Игоря, Ивана Болотникова, Герасима Курина... Но на протяжении всей своей честной и темпераментной книги постоянно свидетельствует: он, конечно, „свой” для всех этих бравых ребятушек с позывными, похожими на псевдонимы рэперов, но все-таки у него, писателя Захара Прилепина, есть в жизни и другое измерение, не сводимое к Донбассу — к питью водки в блиндаже на передовой и в донецком кафе „Пушкин”, к ползанию по полю под прицелом снайперов „нашего несчастного неприятеля” и к азартному пулянию в него „вундервафлями” — то есть особо тяжелыми и разрушительными ракетами с радиусом поражения в 150 метров, которые Батя (он же Глава) передал его батальону „за красивые глаза”. <...>
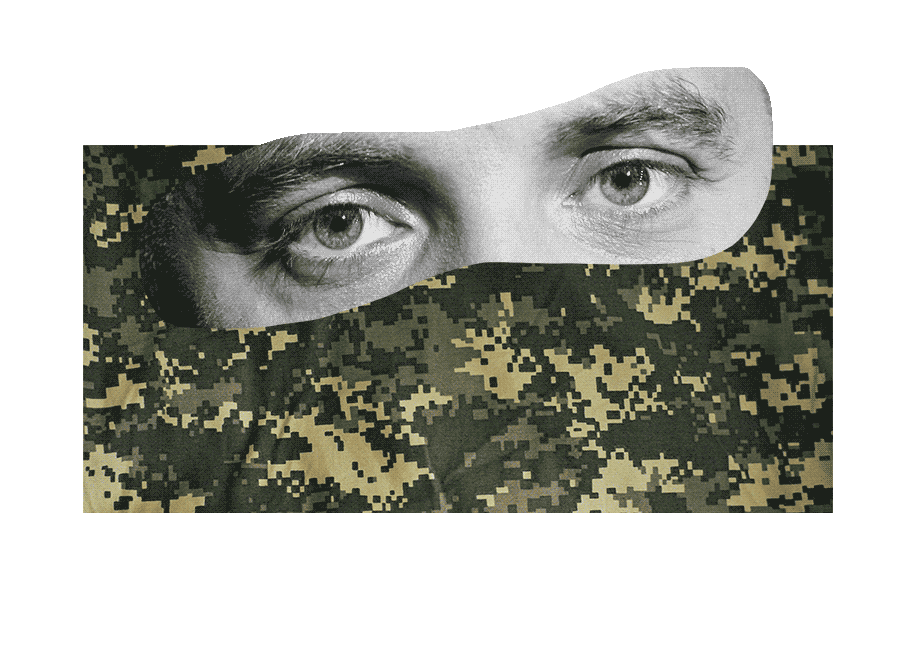
Успел ли обратить внимание писатель — бывший нацбол Прилепин, что он, стремясь „в гущу жизни”, впадает в литературу? А именно — повторяет слова отрицательного героя „Белой гвардии”, прапорщика-футуриста Михаила Шполянского, в котором явственно угадывается Виктор Шкловский: „Самое главное, впрочем, не в этом. Мне стало скучно, потому что я давно не бросал бомб”...»
Вячеслав Суриков в рецензии «Роман цвета хаки» («Эксперт») сравнивает Прилепина с классиками, говорит об авторе «Некоторых...» как о носителе одной из главных родовых черт русской литературы:
«Пушкин, один из героев предыдущей книги Прилепина о судьбе русских писателей на полях сражений, определял его как упоение в бою, делающее мир контрастным: ты видишь его совсем в других красках, высшее начало проступает более явственно, отделяя тех, кому выпало жить, от тех, кому суждено умереть. Обладание опытом этих переживаний Прилепин в книге „Взвод” определил как родовую черту русской литературы, одна из главных вершин которой в подтверждение его версии носит название „Война и мир”. Поездка на Донбасс, состоявшаяся сразу после выхода книги „Взвод”, прочитывается еще и как желание встать в тот самый, невидимый, строй, где в военных мундирах стоят русские писатели. Пока читатель листает книгу „Некоторые не попадут в ад”, он тоже оказывается в этом ряду — в каске и в форме защитного цвета.
Автор текста предельно субъективен. Между ним и персонажем его книги нет дистанции. Он пишет о самом себе и не оставляет читателю никаких вариантов, кроме как видеть окружающий мир через его внутреннюю оптику. Прилепин не только наводит фокус на те или иные объекты, но и задает темпоритм их восприятия — и в этом случае без вариантов: или ты в него попадаешь и идешь до самого конца, или нет. Это литературный квест от первого лица, и требуется понимать язык, который его описывает, выучить имена основных действующих лиц — в этом случае автор не щадит своего читателя, не давая ему дополнительных пояснений: мы видим то, что видим, и о многом приходится догадываться или быть предельно внимательными к тексту, чтобы не упустить важную деталь, которая поможет в последующем восстановить полную картину происходящего в той или иной сцене...»
Анна Долгарева в рецензии «Как Прилепин превратил свои два года пребывания в Донбассе в фантасмагорию» («Радиус») рассказывает, какими деталями и нюансами пришлось пожертвовать автору ради пущей литературности:
«То, что это не мемуары, начинаешь понимать постепенно: вот советник Захарченко Александр Казаков почему-то именуется исключительно Казаком, и это, кажется, не сокращение. А вот фигурирует какой-то Трамп. Что за Трамп, откуда Трамп? Ах, это Дмитрий Трапезников, едва не ставший главой ДНР. А вот Томич — тут сразу понятно, что это Фомич, но почему он не остался Фомичом? У многих же персонажей, впрочем, имена и не изменены. Ташкент, например, остался Ташкентом, Батя — Батей.
Потом понимаешь, что два года прилепинской службы в Донбассе стиснуты здесь, ужаты до одного лета, что сокращено, вычеркнуто, выхолощено то, что было жизнью, и остался роман, осталась русская литература. <...>
Огромная история Прилепина в Донбассе сжата в максимально плотный текст — и ради этой плотности приходится жертвовать многими и многими подробностями. Например, практически не фигурирует в книге Моторола. Прилепин не рассказывает ни о своей дружбе с ним, ни о трагической гибели; если бы этот сюжет был, то он как бы предварял бы историю гибели Захарченко.
Совсем вскользь упомянуто убийство Гиви, названного в книге Генацвале, и происходит оно ближе к концу, тогда как в реальности Гиви был убит вскоре после того, как Прилепин стал замполитом батальона. Звериное чутье подсказывает Прилепину, как расставить акценты, чтобы из жизни получилась литература...»
Олег Демидов в рецензии «Некоторые попадут в Никуда» («Перемены») делится своим пониманием замысла романа и стыдит критиков, которые не увидели всего того, что увидел рецензент:
«В новом романе... Захар, валяющий дурака вечный подросток, который уходит от серьезной рефлексии и нетривиальных развлечений на свою голову. Все, что ему надо, — поучать наслаждение.
Поэтому он так лихо бросается в новые и новые жизненные коллизии: герой то оказывается под обстрелом на „передке”, то на яхте Кустурицы в компании сербского президента, то решает самые разнообразные дела батальона, то находится в окружении семьи. Прибавьте к этому известные события войны.
Вот оно — головокружительное пике, вот она — фантасмагория, вот он — non-fiction novel.

Критики ничего этого не видят или не хотят видеть.
Константин Мильчин срывает маски с главного героя и остается с носом, т. к. ни на миллиметр ему так и не удается подобраться к замыслу романа».
Матвей Раздельный в рецензии «Исповедь» («Свободная пресса») рассказывает не столько о книге Прилепина, сколько о себе, своем генеалогическом древе и широком круге знакомств, но между делом успевает вставить несколько слов о том, что удивило его в книге «Некоторые не попадут в ад»:
«Прилепин нигде не пытается выдавить из читателя слезу.
Прилепин нигде не пытается быть пропагандистом, как Лойко в своем кошмарном — не читали? — романе „Аэропорт”. Прилепин, конечно, за Донбасс, но он не расчеловечивает своего противника. „Наш несчастный неприятель” — идеальная формулировка: „наш” — все-таки родной, не чей-нибудь (будем мы братьями, уже есть); „несчастный” — солдату приказали, он и пошел убивать (а вдруг сам-то он и не хочет, а вдруг самого-то убьют?); „неприятель” — не враг (с врагом жить дальше бок о бок не получится).
В тексте „Мой Прилепин” я как-то употребил (придумал?) термин „донбасский анабасис”. Я не отсылал, но держал в голове знаменитый будейовицкий анабасис Швейка (а также малоизвестную песню „Анабасис” группы „Наутилус Помпилиус” с такой, например, строчкой: „пусть нам повезет отведать ананас удачи”). А роман „Некоторые не попадут в ад” начинается с упоминания героя книги Ярослава Гашека. Бывает же...»
Наконец, Сергей Оробий в рецензии «Чернила и кровь» («Учительская газета») пытается разобраться, какое же место в современной русской литературе занимает Захар Прилепин и его книги, включая свежий «роман-фантасмагорию», чем выделяется на общем фоне:
«Перед нами самая органическая прилепинской натуре книга. Объясню почему. Все пишущие люди делятся на две категории. Одни — писатели par excellence. Они родились внутри алфавита, живут в нем, им, как Акакию Акакиевичу, внутри букв уютно. В России таких записывают в „чистое искусство” — в диапазоне от Пушкина и Фета до Толстого и Сорокина.
А другие к буквам пришли. Они были задуманы иначе — как преподаватели, историки, плотники, мало ли нужных профессий — в общем, жизненная доминанта у них другая... однако же занялись сочинительством. Поэтому их эстетика нередко вызывает споры, творческая манера раздражает. Они (пользуясь названием давнего романа Ольги Славниковой) люди, увеличенные до размеров писателей. <...>
В последние годы русские романы попугайно писались с чужих слов, „по книгам”. Вся эта долгая историческая проза от Яхиной до Быкова были суммой выписок, а не опыта: автор не был ни в ГУЛАГе 30-х, ни в Москве 1941 года — он про это лишь прочитал. Сам Прилепин, между прочим, собрал из выписок „Обитель”. Это был увлекательный большой роман, но у тех героев, говоря по-тыняновски, по венам текли не кровь, а чернила.
Все это время русской прозе не хватало опыта — трагического, мрачного, любого, но невычитанного. Так человеку под капельницей не хватает движения: он лежит на больничной койке, и вроде в сознании, в голове клубятся разные прекрасные мысли, но это лишь „мозговая игра”, а тело понемногу умирает, движения нет.
И вот один встал и пошел».