Шестая палата русской литературы. Часть 1
27 сентября 2017 ● "Горький"
Душевные расстройства великих русских писателей.
Ни для кого не секрет, что многие русские писатели страдали душевными недугами — и даже если этот опыт не был определяющим для их творчества, малозначимым его тоже не назовешь.
Ни для кого не секрет, что многие русские писатели страдали душевными недугами — и даже если этот опыт не был определяющим для их творчества, малозначимым его тоже не назовешь.
Иллюстрации: Елизавета Дедова
«Горький» попытался разобраться в психических расстройствах известных литераторов. В первой части материала поговорим о Батюшкове, Гоголе, Достоевском и Горьком.
Однажды, обсуждая со своим лечащим психиатром обострения душевных болезней в весенний период, я поинтересовался: мол, неужели и пушкинское «...весной я болен; кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены» тоже клинический случай? Ответ я получил в том духе, что многие гениальные литературные произведения не появились бы на свет, если бы не психические болезни их авторов — мысль не новая, но занимательная. Когда окунаешься в мир психических расстройств с их многогранной симптоматикой, то в определенный момент перестаешь видеть вокруг здоровых людей и всем поневоле начинаешь ставить диагнозы: ну и как тут обойти стороной литературных персонажей и их создателей.
1. Константин Батюшков
«Две недели назад он бритвой перерезал себе горло, но рана оказалась не смертельной — его спасли... Пытаясь привести его к религии, я приглашал священника, — но всё напрасно. Он утверждает, что Бог сам призывает его к смерти, что все хлопоты по присмотру бесполезны, потому что существуют тысячи способов умереть. Досадно, но всё это свидетельствует о продолжении расстройства разума...» Так писал таврический губернатор Николай Перовский о тридцатишестилетнем поэте Константине Николаевиче Батюшкове, находившемся в 1823 году в Крыму на лечении. Помимо этого Батюшков «три раза принимался душить своего человека», а на исповеди уверял священника, что «имеет каких-то врагов, всюду его преследующих, составивших тайный противу него совет». С 1824 года поэт лечился близ города Пирна, расположенного на территории современной Германии. Лечащий врач Батюшкова, доктор Антон Дитрих, в ходе наблюдения за своим пациентом делал записки, в которых дал ему весьма красноречивую характеристику:
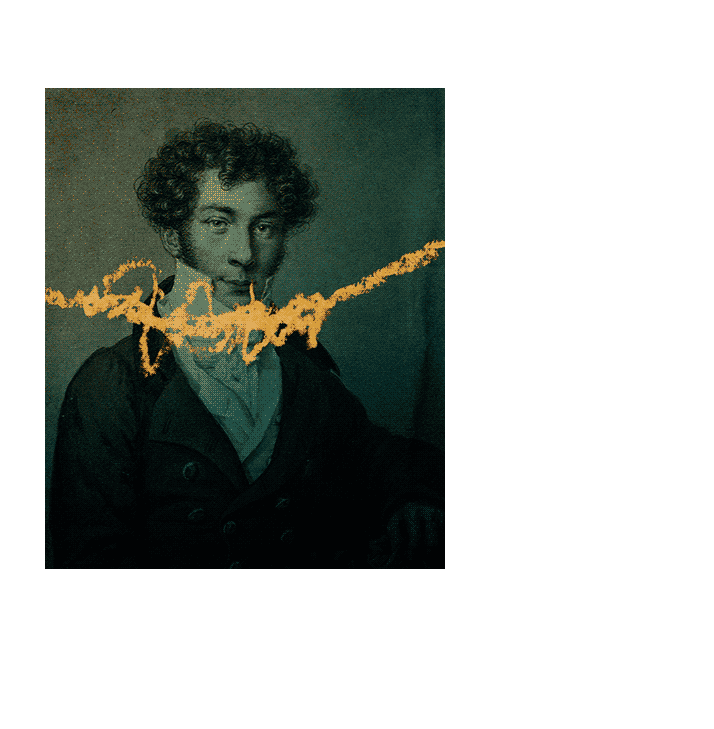
«Все в один голос рассказывают (о К. Н. Батюшкове), что это был благороднейший человек, вернейший друг, нежнейший брат, добросовестнейший слуга государству, чистая, истово поэтическая натура. Теперь это — чудовище, к которому не смеешь подойти без опасения: себя мнит оно божеством, а отца, мать и родных клянет; друга ни в ком не признает и ни к одному из живых существ не питает любви; что бы ни делал, делает так, чтобы своим доброхотам причинить заботу и печаль, никого ничем за то не вознаграждая. И, тем не менее, это мученик, страдалец, который выносит самые ужасные из всех возможных для человека ужасов, который при полной основательности надежд на земное счастье не может не отречься от каждой, хотя бы самомалейшей радости, — от которого отреклась и которого забросила природа, тогда как ему нельзя отрешиться от нее, — это прекрасное, щедро одаренное ею создание, этот предмет радования и хвалений для наилучших между людьми живет теперь в состоянии самого свирепого и ничего, кроме мрачных ожиданий не возбуждающего разрушения и запустения. Чудовище и неповинный мученик, достойный глубочайшего всечеловеческого сострадания и сожаления!»
2. Николай Гоголь
В 1845 году Николай Васильевич Гоголь написал завещание, которое затем было включено в «Выбранные места из переписки с друзьями»:
«Находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю здесь мою последнюю волю.
I. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться… Предать же тело мое земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом; стыдно тому, кто привлечется каким-нибудь вниманием к гниющей персти, которая уже не моя: он поклонится червям, ее грызущим; прошу лучше помолиться покрепче о душе моей, а вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких не имущих насущного хлеба.
II. Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном... Кто после моей смерти вырастет выше духом, нежели как был при жизни моей, тот покажет, что он, точно, любил меня и был мне другом, и сим только воздвигнет мне памятник... никто... в минуты своей тоски и печали не видал на мне унылого вида, хотя и тяжки бывали мои собственные минуты, и тосковал я не меньше других.
III. Завещаю вообще никому не оплакивать меня, и грех себе возьмет на душу тот, кто станет почитать смерть мою какой-нибудь значительной или всеобщей утратой... Не унынью должны мы предаваться при всякой внезапной утрате, но оглянуться строго на самих себя, помышляя уже не о черноте других и не о черноте всего мира, но о своей собственной черноте. Страшна душевная чернота, и зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами!
IV. Завещаю всем моим соотечественникам... завещаю им лучшее из всего, что произвело перо мое, завещаю им мое сочинение, под названием „Прощальная повесть”... Оно было источником слез, никому не зримых, еще от времен детства моего... Клянусь: я не сочинял и не выдумывал ее, она выпелась сама собою из души, которую воспитал Сам Бог испытаньями и горем...
V. Объявляю также во всеуслышанье, что, кроме доселе напечатанного, ничего не существует из моих произведений: все, что было в рукописях, мною сожжено, как бессильное и мертвое, писанное в болезненном и принужденном состоянии...
...Завещанье мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всех журналах и ведомостях, дабы, по случаю неведения его, никто не сделался бы передо мною невинно-виноватым и тем бы не нанес упрека на свою душу».
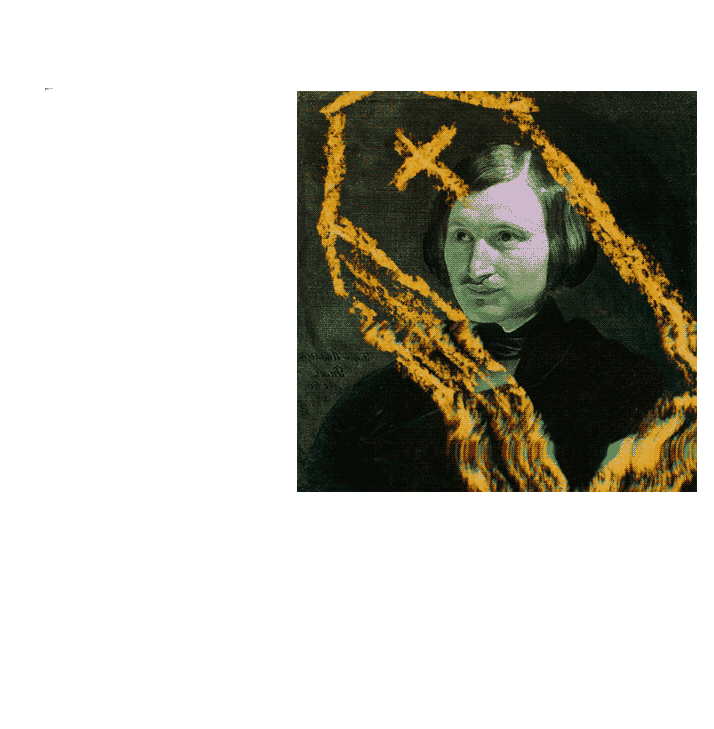
Упомянутая писателем «Прощальная повесть» до нас не дошла, но есть предположение, что Гоголь имел в виду именно «Выбранные места из переписки с друзьями». Из текста завещания видно, что писателя давно терзают душевные муки. Но еще больше моральное состояние Николая Васильевича было подорвано шквалом критики, обрушившимся на него после издания «Выбранных мест...». В 1847 году Гоголь писал Аксакову: «Душа моя уныла, отношения стали тяжелы со всеми друзьями и с теми, кто, не узнав меня, поспешил подружиться со мной. Как я не сошел с ума от бестолковщины. Сердце мое разбито и деятельность отнялась. Тяжело оказаться в вихре недоразумений. Мне следует отказаться от пера и от всего удалиться». Чуть позже художнику Александру Иванову он писал: «„Выбранные места” есть плод патологического творчества. Нападения на книгу мою отчасти справедливы. Я ее выпустил весьма скоро после моего болезненного состояния, когда ни нервы мои, ни голова не пришли в надлежащий порядок».
Врач Алексей Терентьевич Тарасенков так описывал состояние писателя в его последние дни:
«...передо мною был человек как бы изнуренный до крайности чахоткою или доведенный каким-либо продолжительным истощением до необыкновенного изнеможения. Все тело его до чрезвычайности похудело; глаза сделались тусклы и впали, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос ослаб, язык с трудом шевелился, выражение лица стало неопределенное, необъяснимое. Мне он показался мертвецом с первого взгляда. Он сидел, протянув ноги, не двигаясь и даже не переменяя прямого положения лица; голова его была несколько опрокинута назад и покоилась на спинке кресел. Когда я подошел к нему, он приподнял голову, но недолго мог ее удерживать прямо, да и то с заметным усилием. Хотя неохотно, но позволил он мне пощупать пульс и посмотреть язык: пульс был ослабленный, язык чистый, но сухой; кожа имела натуральную теплоту. По всем соображениям видно было, что у него нет горячечного состояния, и неупотребление пищи нельзя было приписать отсутствию аппетита».
И далее: «Подойдя к нему, я с видимым хладнокровием, но с полною теплотою сердечною употребил все усилия, чтоб подействовать на его волю. Я выразил ему мысль, что врачи в болезни прибегают к совету своих собратий и их слушаются; не врачу тем более надобно следовать медицинским наставлениям, особенно преподаваемым с добросовестностью и полным убеждением; и тот, кто поступает иначе, делает преступление пред самим собою. Говоря это, я обратил все внимание на лицо страдальца, чтоб подсмотреть, что происходит в его душе. Выражение его лица нисколько не изменилось — оно было так же спокойно и так же мрачно, как прежде: ни досады, ни огорчения, ни удивления, ни сомнения не показалось и тени. Он смотрел, как человек, для которого все задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякие слова напрасны, колебание в решении невозможно. Впрочем, когда я перестал говорить, он в ответ произнес внятно, с расстановкой и хотя вяло, безжизненно, но со всею полнотою уверенности: „Я знаю, врачи добры: они всегда желают добра”; но вслед за этим опять наклонил голову, от слабости ли или в знак прощания — не знаю».
3. Федор Достоевский
Пожалуй, это первая фамилия, которая приходит на ум, когда речь идет о писателях с психическими расстройствами. Вероятно, они присутствовали у Достоевского с раннего детства. В автобиографическом рассказе «Мужик Марей» он вспоминает, как, будучи девятилетним мальчиком, «среди глубокой тишины, ясно и отчетливо услышал крик: „Волк бежит!”». Крик оказался галлюцинацией, что далее сам писатель и признает: «Я понял наконец, что волка нет и что мне крик: „Волк бежит” — померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчетливый, но такие крики (не об одних волках) мне уже раз или два и прежде мерещились, и я знал про то».
В январском выпуске «Дневника писателя» за 1881 год были опубликованы краткие биографические сведения, продиктованные незадолго до смерти писателем А. Г. Достоевской. Из них можно получить сведения относительно начала у Достоевского эпилептических припадков: «В 1859 г., будучи в падучей болезни, нажитой еще в каторге, был уволен в отставку». Софья Ковалевская вспоминала следующие слова писателя: «Вы все, здоровые люди, и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик! Ан нет! Он не лжет! Он действительно был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!»
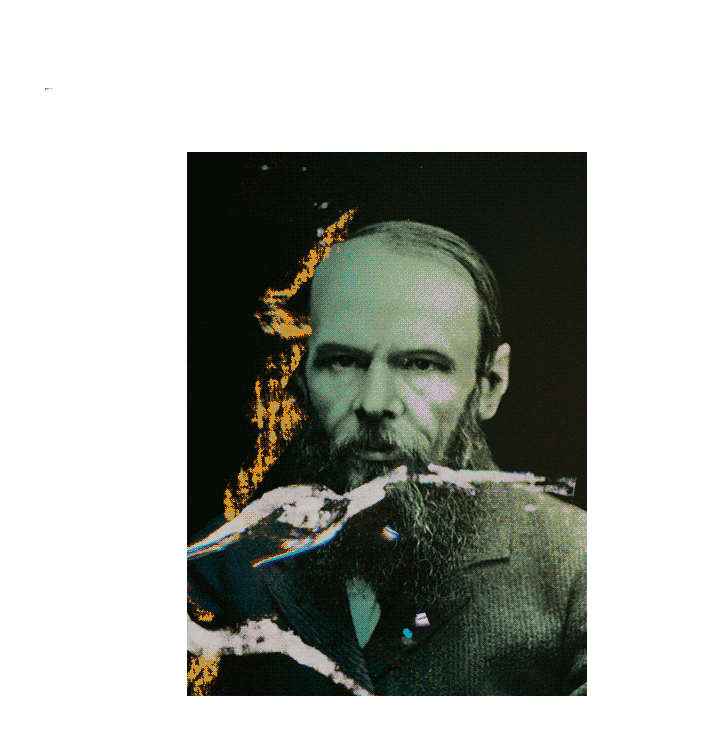
Эпилепсией Достоевский наделил главного героя романа «Идиот». Вот как размышлял Мышкин (а следовательно, и сам писатель) над своей болезнью:
«Он задумался, между прочим, о том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком (если только припадок приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима. Раздумывая об этом мгновении впоследствии, уже в здоровом состоянии, он часто говорил сам себе: что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть, и „высшего бытия”, не что иное, как болезнь, как нарушение нормального состояния, а если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему. (…) В том же, что это действительно „красота и молитва”, что это действительно „высший синтез жизни”, в этом он сомневаться не мог, да и сомнений не мог допустить. Ведь не видения же какие-нибудь снились ему в этот момент, как от хашиша, опиума или вина, унижающие рассудок и искажающие душу, ненормальные и несуществующие? Об этом он здраво мог судить по окончании болезненного состояния. Мгновения эти были именно одним только необыкновенным усилением самосознания — если бы надо было выразить это состояние одним словом, — самосознания и в то же время самоощущения в высшей степени непосредственного. Если в ту секунду, то есть в самый последний сознательный момент пред припадком, ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе: „Да, за этот момент можно отдать всю жизнь!” — то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни. Впрочем, за диалектическую часть своего вывода он не стоял: отупение, душевный мрак, идиотизм стояли пред ним ярким последствием этих „высочайших минут”».
4. Максим Горький
В 1889–1890 годах Максим Горький был вынужден обратиться к врачу-психиатру. Об этом случае, а также о предшествующих событиях, он написал в очерке «О вреде философии». Что же произошло с писателем? В то время он слушал лекции по философии у своего знакомого студента-химика. После одной из лекций случилось следующее:
«Николай развернул передо мною жуткую картину мира, как представлял его Эмпедокл. Этот странный мир, должно быть, особенно привлекал симпатии лектора: Николай рисовал мне его с увлечением, остроумно, выпукло и чаще, чем всегда, вкусно чмокал.
Так же, как накануне, был поздний вечер, а днем выпал проливной дождь. В саду было сыро, вздыхал ветер, бродили тени, по небу неслись черные клочья туч, открывая голубые пропасти и звезды, бегущие стремительно.
Я видел нечто неописуемо страшное: внутри огромной, бездонной чаши, опрокинутой набок, носятся уши, глаза, ладони рук с растопыренными пальцами, катятся головы без лиц, идут человечьи ноги, каждая отдельно от другой, прыгает нечто неуклюжее и волосатое, напоминая медведя, шевелятся корни деревьев, точно огромные пауки, а ветки и листья живут отдельно от них; летают разноцветные крылья, и немо смотрят на меня безглазые морды огромных быков, а круглые глаза их испуганно прыгают над ними; вот бежит окрыленная нога верблюда, а вслед за нею стремительно несется рогатая голова совы, — вся видимая мною внутренность чаши заполнена вихревым движением отдельных членов, частей, кусков, иногда соединенных друг с другом иронически безобразно.
В этом хаосе мрачной разобщенности, в немом вихре изорванных тел, величественно движутся, противоборствуя друг другу, Ненависть и Любовь, неразличимо подобные одна другой, от них изливается призрачное, голубоватое сияние, напоминая о зимнем небе в солнечный день, и освещает все движущееся мертвенно-однотонным светом.
Я не слушал Николая, поглощенный созерцанием видения и как бы тоже медленно вращаясь в этом мире, изломанном на куски, как будто взорванном изнутри и падающем по спирали в бездонную пропасть голубого, холодного сияния. Я был так подавлен видимым, что, в оцепенении, не мог сразу ответить на вопросы Николая».
Вскоре Николай уехал в университет, посоветовав Горькому «не заниматься философией до его возвращения». Ну а дальше началось:
«Я остался с тревожным хаосом в голове, с возмущенной душой, а через несколько дней почувствовал, что мозг мой плавится и кипит, рождая странные мысли, фантастические видения и картины. Чувство тоски, высасывающей жизнь, охватило меня, и я стал бояться безумия. Но я был храбр, решил дойти до конца страха — и, вероятно, именно это спасло меня.
Жуткие ночи переживал я. Сидишь, бывало, на „Откосе”, глядя в мутную даль заволжских лугов, в небо, осыпанное золотой пылью звезд, и — вдруг начинаешь ждать, что вот сейчас, в ночной синеве небес, явится круглое, черное пятно, как отверстие бездонного колодца. А из него высунется огненный палец и погрозит мне.
Или — по небу, сметая и гася звезды, проползет толстая серая змея в ледяной чешуе и навсегда оставит за собою непроницаемую каменную тьму и тишину. Казалось возможным, что все звезды Млечного Пути сольются в огненную реку, и вот — сейчас она низринется на землю.
Вдруг, на месте Волги, разевала серую пасть бездонная щель, и в нее отовсюду сбегались, играя, потоки детей, катились бесконечные вереницы солдат с оркестрами музыки впереди, крестным ходом, текли толпы народа со множеством священников, хоругвей, икон, ехали неисчислимые обозы, шли миллионы мужиков, с палками в руках, котомками за спиной, — все на одно лицо; туда же, в эту щель, всасывались облака, втягивалось небо, колесом катилась изломанная луна и вихрем сыпались звезды, точно медные снежинки.
Я ожидал, что широкая плоскость лугов начнет свертываться в свиток, точно лист бумаги, этот свиток покатится через реку, всосет воду, затем высокий берег реки тоже свернется, как береста или кусок кожи на огне, и, когда все видимое превратится в черный свиток, — чья-то снежно-белая рука возьмет его и унесет.

Из горы, на которой я сидел, могли выйти большие черные люди с медными головами, они тесной толпой идут по воздуху и наполняют мир оглушающим звоном — от него падают, как срезанные невидимою пилой, деревья, колокольни, разрушаются дома; и вот — все на земле превратилось в столб зеленовато-горящей пыли, осталась только круглая, гладкая пустыня, и посреди — я, один на четыре вечности. Именно — на четыре, я видел эти вечности, — огромные, темно-серые круги тумана или дыма, они медленно вращаются в непроницаемой тьме, почти не отличаясь от нее своим призрачным цветом.
Видел я Бога, это Саваоф, совершенно такой, каким его изображают на иконах и картинах: благообразный, седобородый, с равнодушными глазами, одиноко сидя на большом, тяжелом престоле, он шьет золотою иглою и голубой ниткой чудовищно длинную белую рубаху, она опускается до земли прозрачным облаком. Вокруг Бога — пустота, и в нее невозможно смотреть без ужаса, потому что она непрерывно и безгранично ширится, углубляется.
За рекою, на темной плоскости, вырастает, почти до небес, человечье ухо — обыкновенное ухо, с толстыми волосами в раковине, — вырастает и слушает все, что думаю я.
Длинным, двуручным мечом средневекового палача, гибким как бич, я убивал бесчисленное множество людей, они шли ко мне справа и слева, мужчины и женщины, все нагие; шли молча, склонив головы, покорно вытягивая шеи. Сзади меня стояло неведомое существо, и это его волей я убивал, а оно дышало в мозг мне холодными иглами.
Ко мне подходила голая женщина на птичьих лапах вместо ступней ног, из ее грудей исходили золотые лучи; вот она вылила на голову мне пригоршни жгучего масла, и, вспыхнув точно клок ваты, я исчезал.
Ночной сторож Ибрагим Губайдуллин, несколько раз поднимал меня на верхней аллее „Откоса” и отводил домой, ласково уговаривая:
— Засэм гуляйш больной? Больной — лежать дома нада...».
Нет возможности привести здесь все красочные галлюцинации Алексея Максимовича, так как их в этом очерке описано немало. В конце концов писатель осознал необходимость врачебной помощи:
«От этих видений и ночных бесед с разными лицами, которые неизвестно как появлялись передо мною и неуловимо исчезали, едва только сознание действительности возвращалось ко мне, от этой слишком интересной жизни на границе безумия необходимо было избавиться. Я достиг уже такого состояния, что даже и днем при свете солнца напряженно ожидал чудесных событий».
Совет психиатра был весьма забавен:
«...Маленький, черный, горбатый психиатр, человек одинокий, умница и скептик, часа два расспрашивал, как я живу, потом, хлопнув меня по колену страшно белою рукою, сказал:
— Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю дребедень, которой вы живете. По комплекции вашей вы человек здоровый — и стыдно вам так распускать себя. Вам необходим физический труд. Насчет женщин — как? Ну! Это тоже не годится. Предоставьте воздержание другим, а себе заведите бабенку, которая пожаднее в любовной игре, — это будет полезно.
Он дал мне еще несколько советов, одинаково неприятных и неприемлемых, написал два рецепта, затем сказал несколько фраз, очень памятных мне:
— Я кое-что слышал о вас и — прошу извинить, если это не понравится Вам. Вы кажетесь мне человеком, так сказать, первобытным. А у первобытных людей фантазия всегда преобладает над логическим мышлением. Все, что Вы читали, видели, возбудило у Вас только фантазию, а она совершенно непримирима с действительностью, которая хотя тоже фантастична, но на свой лад. Затем: один древний умник сказал: кто охотно противоречит, тот неспособен научиться ничему дельному. Сказано хорошо: сначала — изучить, потом противоречить — так надо.
Провожая меня, он повторил с улыбкой веселого черта:
— А бабеночка очень полезна для вас».
«Горький» попытался разобраться в психических расстройствах известных литераторов. В первой части материала поговорим о Батюшкове, Гоголе, Достоевском и Горьком.
Однажды, обсуждая со своим лечащим психиатром обострения душевных болезней в весенний период, я поинтересовался: мол, неужели и пушкинское «...весной я болен; кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены» тоже клинический случай? Ответ я получил в том духе, что многие гениальные литературные произведения не появились бы на свет, если бы не психические болезни их авторов — мысль не новая, но занимательная. Когда окунаешься в мир психических расстройств с их многогранной симптоматикой, то в определенный момент перестаешь видеть вокруг здоровых людей и всем поневоле начинаешь ставить диагнозы: ну и как тут обойти стороной литературных персонажей и их создателей.
1. Константин Батюшков
«Две недели назад он бритвой перерезал себе горло, но рана оказалась не смертельной — его спасли... Пытаясь привести его к религии, я приглашал священника, — но всё напрасно. Он утверждает, что Бог сам призывает его к смерти, что все хлопоты по присмотру бесполезны, потому что существуют тысячи способов умереть. Досадно, но всё это свидетельствует о продолжении расстройства разума...» Так писал таврический губернатор Николай Перовский о тридцатишестилетнем поэте Константине Николаевиче Батюшкове, находившемся в 1823 году в Крыму на лечении. Помимо этого Батюшков «три раза принимался душить своего человека», а на исповеди уверял священника, что «имеет каких-то врагов, всюду его преследующих, составивших тайный противу него совет». С 1824 года поэт лечился близ города Пирна, расположенного на территории современной Германии. Лечащий врач Батюшкова, доктор Антон Дитрих, в ходе наблюдения за своим пациентом делал записки, в которых дал ему весьма красноречивую характеристику:
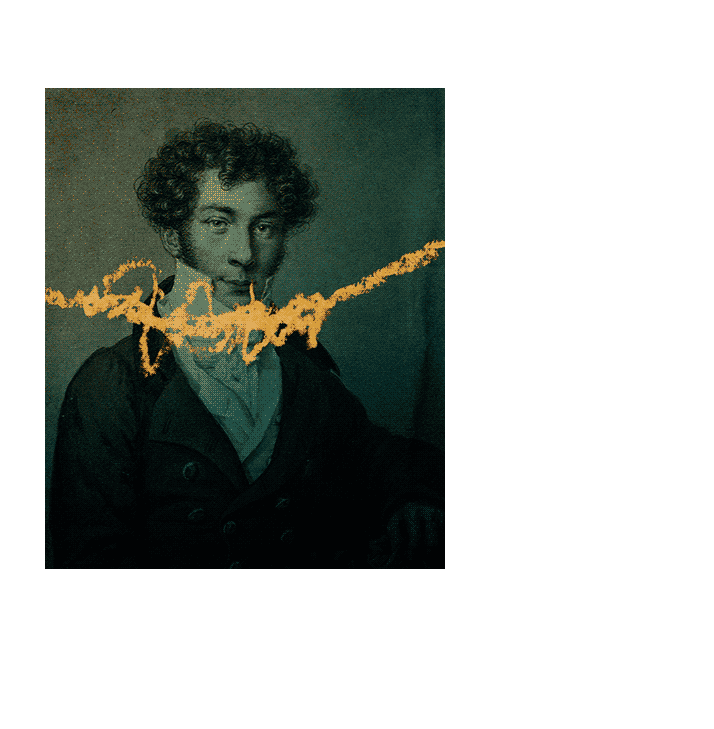
«Все в один голос рассказывают (о К. Н. Батюшкове), что это был благороднейший человек, вернейший друг, нежнейший брат, добросовестнейший слуга государству, чистая, истово поэтическая натура. Теперь это — чудовище, к которому не смеешь подойти без опасения: себя мнит оно божеством, а отца, мать и родных клянет; друга ни в ком не признает и ни к одному из живых существ не питает любви; что бы ни делал, делает так, чтобы своим доброхотам причинить заботу и печаль, никого ничем за то не вознаграждая. И, тем не менее, это мученик, страдалец, который выносит самые ужасные из всех возможных для человека ужасов, который при полной основательности надежд на земное счастье не может не отречься от каждой, хотя бы самомалейшей радости, — от которого отреклась и которого забросила природа, тогда как ему нельзя отрешиться от нее, — это прекрасное, щедро одаренное ею создание, этот предмет радования и хвалений для наилучших между людьми живет теперь в состоянии самого свирепого и ничего, кроме мрачных ожиданий не возбуждающего разрушения и запустения. Чудовище и неповинный мученик, достойный глубочайшего всечеловеческого сострадания и сожаления!»
2. Николай Гоголь
В 1845 году Николай Васильевич Гоголь написал завещание, которое затем было включено в «Выбранные места из переписки с друзьями»:
«Находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю здесь мою последнюю волю.
I. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться… Предать же тело мое земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом; стыдно тому, кто привлечется каким-нибудь вниманием к гниющей персти, которая уже не моя: он поклонится червям, ее грызущим; прошу лучше помолиться покрепче о душе моей, а вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких не имущих насущного хлеба.
II. Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном... Кто после моей смерти вырастет выше духом, нежели как был при жизни моей, тот покажет, что он, точно, любил меня и был мне другом, и сим только воздвигнет мне памятник... никто... в минуты своей тоски и печали не видал на мне унылого вида, хотя и тяжки бывали мои собственные минуты, и тосковал я не меньше других.
III. Завещаю вообще никому не оплакивать меня, и грех себе возьмет на душу тот, кто станет почитать смерть мою какой-нибудь значительной или всеобщей утратой... Не унынью должны мы предаваться при всякой внезапной утрате, но оглянуться строго на самих себя, помышляя уже не о черноте других и не о черноте всего мира, но о своей собственной черноте. Страшна душевная чернота, и зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами!
IV. Завещаю всем моим соотечественникам... завещаю им лучшее из всего, что произвело перо мое, завещаю им мое сочинение, под названием „Прощальная повесть”... Оно было источником слез, никому не зримых, еще от времен детства моего... Клянусь: я не сочинял и не выдумывал ее, она выпелась сама собою из души, которую воспитал Сам Бог испытаньями и горем...
V. Объявляю также во всеуслышанье, что, кроме доселе напечатанного, ничего не существует из моих произведений: все, что было в рукописях, мною сожжено, как бессильное и мертвое, писанное в болезненном и принужденном состоянии...
...Завещанье мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всех журналах и ведомостях, дабы, по случаю неведения его, никто не сделался бы передо мною невинно-виноватым и тем бы не нанес упрека на свою душу».
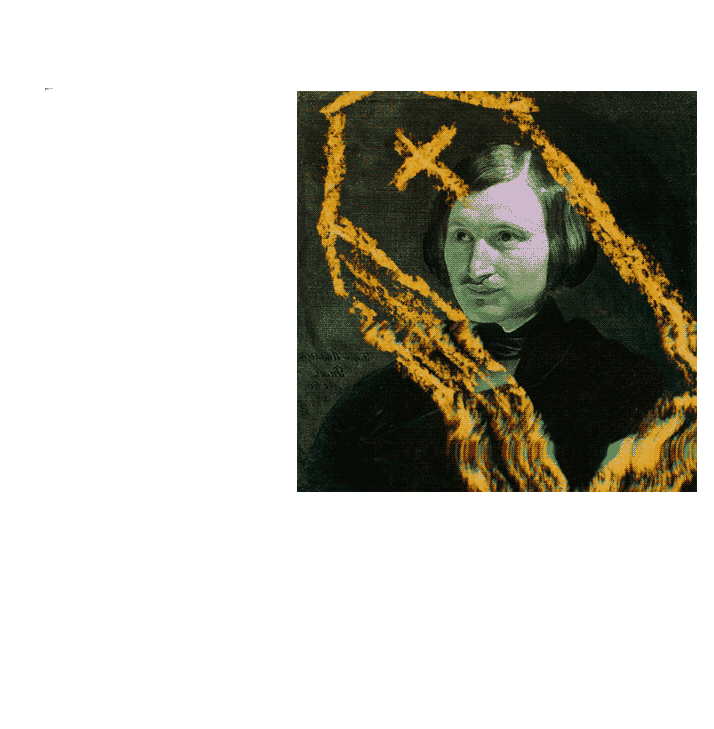
Упомянутая писателем «Прощальная повесть» до нас не дошла, но есть предположение, что Гоголь имел в виду именно «Выбранные места из переписки с друзьями». Из текста завещания видно, что писателя давно терзают душевные муки. Но еще больше моральное состояние Николая Васильевича было подорвано шквалом критики, обрушившимся на него после издания «Выбранных мест...». В 1847 году Гоголь писал Аксакову: «Душа моя уныла, отношения стали тяжелы со всеми друзьями и с теми, кто, не узнав меня, поспешил подружиться со мной. Как я не сошел с ума от бестолковщины. Сердце мое разбито и деятельность отнялась. Тяжело оказаться в вихре недоразумений. Мне следует отказаться от пера и от всего удалиться». Чуть позже художнику Александру Иванову он писал: «„Выбранные места” есть плод патологического творчества. Нападения на книгу мою отчасти справедливы. Я ее выпустил весьма скоро после моего болезненного состояния, когда ни нервы мои, ни голова не пришли в надлежащий порядок».
Врач Алексей Терентьевич Тарасенков так описывал состояние писателя в его последние дни:
«...передо мною был человек как бы изнуренный до крайности чахоткою или доведенный каким-либо продолжительным истощением до необыкновенного изнеможения. Все тело его до чрезвычайности похудело; глаза сделались тусклы и впали, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос ослаб, язык с трудом шевелился, выражение лица стало неопределенное, необъяснимое. Мне он показался мертвецом с первого взгляда. Он сидел, протянув ноги, не двигаясь и даже не переменяя прямого положения лица; голова его была несколько опрокинута назад и покоилась на спинке кресел. Когда я подошел к нему, он приподнял голову, но недолго мог ее удерживать прямо, да и то с заметным усилием. Хотя неохотно, но позволил он мне пощупать пульс и посмотреть язык: пульс был ослабленный, язык чистый, но сухой; кожа имела натуральную теплоту. По всем соображениям видно было, что у него нет горячечного состояния, и неупотребление пищи нельзя было приписать отсутствию аппетита».
И далее: «Подойдя к нему, я с видимым хладнокровием, но с полною теплотою сердечною употребил все усилия, чтоб подействовать на его волю. Я выразил ему мысль, что врачи в болезни прибегают к совету своих собратий и их слушаются; не врачу тем более надобно следовать медицинским наставлениям, особенно преподаваемым с добросовестностью и полным убеждением; и тот, кто поступает иначе, делает преступление пред самим собою. Говоря это, я обратил все внимание на лицо страдальца, чтоб подсмотреть, что происходит в его душе. Выражение его лица нисколько не изменилось — оно было так же спокойно и так же мрачно, как прежде: ни досады, ни огорчения, ни удивления, ни сомнения не показалось и тени. Он смотрел, как человек, для которого все задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякие слова напрасны, колебание в решении невозможно. Впрочем, когда я перестал говорить, он в ответ произнес внятно, с расстановкой и хотя вяло, безжизненно, но со всею полнотою уверенности: „Я знаю, врачи добры: они всегда желают добра”; но вслед за этим опять наклонил голову, от слабости ли или в знак прощания — не знаю».
3. Федор Достоевский
Пожалуй, это первая фамилия, которая приходит на ум, когда речь идет о писателях с психическими расстройствами. Вероятно, они присутствовали у Достоевского с раннего детства. В автобиографическом рассказе «Мужик Марей» он вспоминает, как, будучи девятилетним мальчиком, «среди глубокой тишины, ясно и отчетливо услышал крик: „Волк бежит!”». Крик оказался галлюцинацией, что далее сам писатель и признает: «Я понял наконец, что волка нет и что мне крик: „Волк бежит” — померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчетливый, но такие крики (не об одних волках) мне уже раз или два и прежде мерещились, и я знал про то».
В январском выпуске «Дневника писателя» за 1881 год были опубликованы краткие биографические сведения, продиктованные незадолго до смерти писателем А. Г. Достоевской. Из них можно получить сведения относительно начала у Достоевского эпилептических припадков: «В 1859 г., будучи в падучей болезни, нажитой еще в каторге, был уволен в отставку». Софья Ковалевская вспоминала следующие слова писателя: «Вы все, здоровые люди, и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик! Ан нет! Он не лжет! Он действительно был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!»
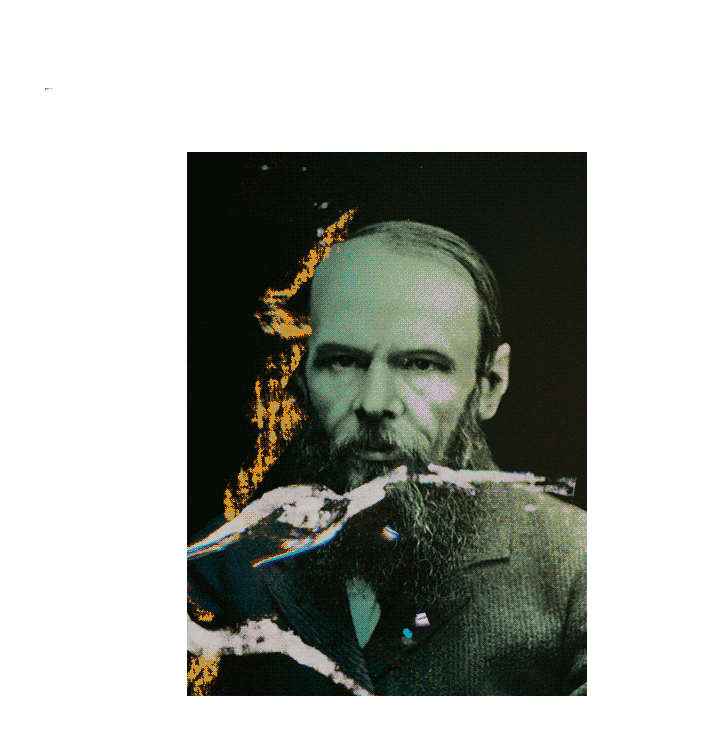
Эпилепсией Достоевский наделил главного героя романа «Идиот». Вот как размышлял Мышкин (а следовательно, и сам писатель) над своей болезнью:
«Он задумался, между прочим, о том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком (если только припадок приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима. Раздумывая об этом мгновении впоследствии, уже в здоровом состоянии, он часто говорил сам себе: что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть, и „высшего бытия”, не что иное, как болезнь, как нарушение нормального состояния, а если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему. (…) В том же, что это действительно „красота и молитва”, что это действительно „высший синтез жизни”, в этом он сомневаться не мог, да и сомнений не мог допустить. Ведь не видения же какие-нибудь снились ему в этот момент, как от хашиша, опиума или вина, унижающие рассудок и искажающие душу, ненормальные и несуществующие? Об этом он здраво мог судить по окончании болезненного состояния. Мгновения эти были именно одним только необыкновенным усилением самосознания — если бы надо было выразить это состояние одним словом, — самосознания и в то же время самоощущения в высшей степени непосредственного. Если в ту секунду, то есть в самый последний сознательный момент пред припадком, ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе: „Да, за этот момент можно отдать всю жизнь!” — то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни. Впрочем, за диалектическую часть своего вывода он не стоял: отупение, душевный мрак, идиотизм стояли пред ним ярким последствием этих „высочайших минут”».
4. Максим Горький
В 1889–1890 годах Максим Горький был вынужден обратиться к врачу-психиатру. Об этом случае, а также о предшествующих событиях, он написал в очерке «О вреде философии». Что же произошло с писателем? В то время он слушал лекции по философии у своего знакомого студента-химика. После одной из лекций случилось следующее:
«Николай развернул передо мною жуткую картину мира, как представлял его Эмпедокл. Этот странный мир, должно быть, особенно привлекал симпатии лектора: Николай рисовал мне его с увлечением, остроумно, выпукло и чаще, чем всегда, вкусно чмокал.
Так же, как накануне, был поздний вечер, а днем выпал проливной дождь. В саду было сыро, вздыхал ветер, бродили тени, по небу неслись черные клочья туч, открывая голубые пропасти и звезды, бегущие стремительно.
Я видел нечто неописуемо страшное: внутри огромной, бездонной чаши, опрокинутой набок, носятся уши, глаза, ладони рук с растопыренными пальцами, катятся головы без лиц, идут человечьи ноги, каждая отдельно от другой, прыгает нечто неуклюжее и волосатое, напоминая медведя, шевелятся корни деревьев, точно огромные пауки, а ветки и листья живут отдельно от них; летают разноцветные крылья, и немо смотрят на меня безглазые морды огромных быков, а круглые глаза их испуганно прыгают над ними; вот бежит окрыленная нога верблюда, а вслед за нею стремительно несется рогатая голова совы, — вся видимая мною внутренность чаши заполнена вихревым движением отдельных членов, частей, кусков, иногда соединенных друг с другом иронически безобразно.
В этом хаосе мрачной разобщенности, в немом вихре изорванных тел, величественно движутся, противоборствуя друг другу, Ненависть и Любовь, неразличимо подобные одна другой, от них изливается призрачное, голубоватое сияние, напоминая о зимнем небе в солнечный день, и освещает все движущееся мертвенно-однотонным светом.
Я не слушал Николая, поглощенный созерцанием видения и как бы тоже медленно вращаясь в этом мире, изломанном на куски, как будто взорванном изнутри и падающем по спирали в бездонную пропасть голубого, холодного сияния. Я был так подавлен видимым, что, в оцепенении, не мог сразу ответить на вопросы Николая».
Вскоре Николай уехал в университет, посоветовав Горькому «не заниматься философией до его возвращения». Ну а дальше началось:
«Я остался с тревожным хаосом в голове, с возмущенной душой, а через несколько дней почувствовал, что мозг мой плавится и кипит, рождая странные мысли, фантастические видения и картины. Чувство тоски, высасывающей жизнь, охватило меня, и я стал бояться безумия. Но я был храбр, решил дойти до конца страха — и, вероятно, именно это спасло меня.
Жуткие ночи переживал я. Сидишь, бывало, на „Откосе”, глядя в мутную даль заволжских лугов, в небо, осыпанное золотой пылью звезд, и — вдруг начинаешь ждать, что вот сейчас, в ночной синеве небес, явится круглое, черное пятно, как отверстие бездонного колодца. А из него высунется огненный палец и погрозит мне.
Или — по небу, сметая и гася звезды, проползет толстая серая змея в ледяной чешуе и навсегда оставит за собою непроницаемую каменную тьму и тишину. Казалось возможным, что все звезды Млечного Пути сольются в огненную реку, и вот — сейчас она низринется на землю.
Вдруг, на месте Волги, разевала серую пасть бездонная щель, и в нее отовсюду сбегались, играя, потоки детей, катились бесконечные вереницы солдат с оркестрами музыки впереди, крестным ходом, текли толпы народа со множеством священников, хоругвей, икон, ехали неисчислимые обозы, шли миллионы мужиков, с палками в руках, котомками за спиной, — все на одно лицо; туда же, в эту щель, всасывались облака, втягивалось небо, колесом катилась изломанная луна и вихрем сыпались звезды, точно медные снежинки.
Я ожидал, что широкая плоскость лугов начнет свертываться в свиток, точно лист бумаги, этот свиток покатится через реку, всосет воду, затем высокий берег реки тоже свернется, как береста или кусок кожи на огне, и, когда все видимое превратится в черный свиток, — чья-то снежно-белая рука возьмет его и унесет.

Из горы, на которой я сидел, могли выйти большие черные люди с медными головами, они тесной толпой идут по воздуху и наполняют мир оглушающим звоном — от него падают, как срезанные невидимою пилой, деревья, колокольни, разрушаются дома; и вот — все на земле превратилось в столб зеленовато-горящей пыли, осталась только круглая, гладкая пустыня, и посреди — я, один на четыре вечности. Именно — на четыре, я видел эти вечности, — огромные, темно-серые круги тумана или дыма, они медленно вращаются в непроницаемой тьме, почти не отличаясь от нее своим призрачным цветом.
Видел я Бога, это Саваоф, совершенно такой, каким его изображают на иконах и картинах: благообразный, седобородый, с равнодушными глазами, одиноко сидя на большом, тяжелом престоле, он шьет золотою иглою и голубой ниткой чудовищно длинную белую рубаху, она опускается до земли прозрачным облаком. Вокруг Бога — пустота, и в нее невозможно смотреть без ужаса, потому что она непрерывно и безгранично ширится, углубляется.
За рекою, на темной плоскости, вырастает, почти до небес, человечье ухо — обыкновенное ухо, с толстыми волосами в раковине, — вырастает и слушает все, что думаю я.
Длинным, двуручным мечом средневекового палача, гибким как бич, я убивал бесчисленное множество людей, они шли ко мне справа и слева, мужчины и женщины, все нагие; шли молча, склонив головы, покорно вытягивая шеи. Сзади меня стояло неведомое существо, и это его волей я убивал, а оно дышало в мозг мне холодными иглами.
Ко мне подходила голая женщина на птичьих лапах вместо ступней ног, из ее грудей исходили золотые лучи; вот она вылила на голову мне пригоршни жгучего масла, и, вспыхнув точно клок ваты, я исчезал.
Ночной сторож Ибрагим Губайдуллин, несколько раз поднимал меня на верхней аллее „Откоса” и отводил домой, ласково уговаривая:
— Засэм гуляйш больной? Больной — лежать дома нада...».
Нет возможности привести здесь все красочные галлюцинации Алексея Максимовича, так как их в этом очерке описано немало. В конце концов писатель осознал необходимость врачебной помощи:
«От этих видений и ночных бесед с разными лицами, которые неизвестно как появлялись передо мною и неуловимо исчезали, едва только сознание действительности возвращалось ко мне, от этой слишком интересной жизни на границе безумия необходимо было избавиться. Я достиг уже такого состояния, что даже и днем при свете солнца напряженно ожидал чудесных событий».
Совет психиатра был весьма забавен:
«...Маленький, черный, горбатый психиатр, человек одинокий, умница и скептик, часа два расспрашивал, как я живу, потом, хлопнув меня по колену страшно белою рукою, сказал:
— Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю дребедень, которой вы живете. По комплекции вашей вы человек здоровый — и стыдно вам так распускать себя. Вам необходим физический труд. Насчет женщин — как? Ну! Это тоже не годится. Предоставьте воздержание другим, а себе заведите бабенку, которая пожаднее в любовной игре, — это будет полезно.
Он дал мне еще несколько советов, одинаково неприятных и неприемлемых, написал два рецепта, затем сказал несколько фраз, очень памятных мне:
— Я кое-что слышал о вас и — прошу извинить, если это не понравится Вам. Вы кажетесь мне человеком, так сказать, первобытным. А у первобытных людей фантазия всегда преобладает над логическим мышлением. Все, что Вы читали, видели, возбудило у Вас только фантазию, а она совершенно непримирима с действительностью, которая хотя тоже фантастична, но на свой лад. Затем: один древний умник сказал: кто охотно противоречит, тот неспособен научиться ничему дельному. Сказано хорошо: сначала — изучить, потом противоречить — так надо.
Провожая меня, он повторил с улыбкой веселого черта:
— А бабеночка очень полезна для вас».