«Я хочу, чтобы моя книга была не “литературой”, а формой жизни»
2 февраля 2021 ● COLTA.RU
Алла Горбунова: большое интервью.
© Из личного архива Аллы Горбуновой
Петр Разумов: Один из вопросов, с которого я хотел начать… для меня это вопрос, который возникает после чтения твоей последней книжки прозы [«Конец света, моя любовь»]. Где границы допустимого?
Алла Горбунова: А в каком смысле допустимого? Этически, эстетически? Что ты имеешь в виду?
Разумов: Для меня это комплекс вопросов. Думаю, прежде всего это вопрос о норме. Что является, допустим, нормой поведения? В психологическом и общегуманитарном смысле. Ну вот, например: я недавно прочитал книжку Сержио Бенвенуто «Перверсии». И там в финале очень интересное место. По сути, все перверсии, которые описывал Фрейд… их больше, но те, которые он описал, давно нормализированы. Это часть допустимого поведения. Так что это книга не об «извращениях», как это можно перевести на русский, а о субъектности как таковой, которая конституируется через перверсию в том числе. И основной перверсией является так называемый моральный мазохизм. И вот Бенвенуто пишет в конце, что Фрейду так и не удалось вписать моральный мазохизм в теорию влечений. То есть в собственную теорию. Он оказался как бы предзадан. А что такое «моральный мазохизм»? Это то, о чем писал Ницше: ресентимент, «нечистая совесть» — это то, что лежит в основе христианской души. Концепция первородного греха: ты виноват как бы уже заранее. И если посмотреть на какие-то важные социальные движения, «снежинки» так называемые… Слышала такое слово? Это молодые люди, которые очень уязвимы, которые требуют к себе уважительного отношения. Они во всем видят какую-то агрессию, токсичность и так далее. Вот они не готовы страдать. Как бы страдать изначально. Их позиция: мы не будем подчиняться и не будем подчинять. Они какие-то люди уже постхристианские. И это появляется. Это то, что Мишель Фуко, например, назвал «смерть субъекта». Не очень было тогда понятно, о чем речь, а сейчас просто уже социальные процессы показывают, что субъектность классическая меняется. Ее даже можно назвать капиталистической, потому что то, что описал Фрейд в работе «По ту сторону принципа удовольствия», — это капиталистическая экономика. Но она является частью глобальной, христианской в своей основе.
Горбунова: А ты думаешь, вся эта тема с попыткой построить максимально безопасное пространство — это не связано с капитализмом? Мне как раз кажется, что такой тип чувственности вырабатывается именно в позднем капиталистическом обществе. Коммунистическая чувственность — она другая, открытая, не индивидуалистическая.
Разумов: Да, но как возможна вот эта открытость? Ну, например, один из частных вопросов: как возможна солидарность? Через что? Через договор? Через, не знаю, слово? То есть через ум, через слово, через чувства? На каком уровне мы солидаризируемся, чтобы договориться? Чтобы не быть друг для друга «токсичными», допустим. Нам же нужно каким-то образом договориться об этом?
Горбунова: Вот хотелось бы верить, что можно обо всем договариваться, но весь мой жизненный опыт опровергает это.
Разумов: Вот-вот. Я специально такую тираду выставил, потому что тут масса локальных проблем. Например, проблема понимания. Только вчера написал об этом стишок. Возможно ли в принципе понимание? Оно ведь невозможно, ну, к таким выводам многие приходят, да?
Горбунова: С одной стороны, совершенно необходимо осуществлять попытки договариваться. С другой стороны, какой-то уверенности в успехе совсем нет. Но, мне кажется, в этом деле какие-то маленькие победы — это уже очень здорово, если что-то где-то получается.
Разумов: Мне кажется, раньше люди солидаризировались через травмы. Через травматический опыт. И это продолжает работать. А может, не продолжает. Вот феминистки подозрительно относятся, допустим, к мужчинам в своей среде.
Горбунова: Да не факт. По-разному, феминистки очень разные.
Разумов: Тем не менее мужчина-феминист — он как бы невозможен в силу…
Горбунова: Почему? Возможен, есть очень много.
Разумов: Профем, профем.
Горбунова: Я не очень разбираюсь в этом вопросе, но мне кажется, что это не только женское движение, что это вообще очень важное культурное движение, которое и для мужчин доступно.
Разумов: А как мужчина солидаризируется с женщиной? Он может иметь такой же опыт травмы или насилия? А если он не имеет такого опыта, то как он понимает женщину, которая это испытывает?
Горбунова: Вообще как один человек понимает другого? Может, он просто видит, что происходит с этой женщиной? Смотрит и видит? Если он не хочет видеть — он отвернется, но ведь он же может увидеть и понять. Может не отворачиваться. Вот что-то происходит с нами, наши переживания неограниченно перетекают одно в другое, пребывая в некой неразличенности. Чтобы переживание стало осмысленным, оно должно быть выхвачено из общего потока и обрести свою определенность: именно этот смысл, это событие, это переживание. Одно становится отличным от другого, когда мы обращаем на него свой взгляд, свое внимание. Наше обращение взгляда — это уже не непосредственное восприятие единого потока, оно предполагает уже завершенное, случившееся, прошедшее переживание. Поэтому мы всегда имеем дело как с определенным только с прошлым. И получается, что весь наш различенный опыт и мир, о котором мы можем что-то сказать, оказываются всегда прошлым. И реальность, которую мы понимаем и осмысляем, — это прошлое, воспоминание. В настоящем мы живем, но мы его не видим. Но в этом прошлом всегда чего-то не хватает, притом, может быть, самого главного. Это то, что не поддается определению, то, к чему мы всегда опоздали. В конечном счете все всегда опоздали к своим самым главным событиям, и назвать их мы тоже едва ли можем, они ускользают, как неуловимые прикосновения. И, что касается понимания, получается вот что. Мои переживания даны мне как прошлое, и другому его переживания тоже даны как прошлое, но при этом мои переживания могут быть даны другому, как и мне его переживания, в настоящем. Мы не видим в настоящем своих переживаний, но можем увидеть переживания другого, которых он сам не видит. То есть мы можем увидеть то, что происходит с другим, так, как никогда не будет доступно ему самому. Парадоксальная ситуация: чтобы увидеть свои собственные переживания — мы слепы, пока не вычленим их из потока, не превратим в прошлое, но нам не нужно это делать с переживаниями другого, их мы просто «видим» в их протекании. И вот это «просто видим» и есть единение в опыте, а не то, когда мы переживаем одно и то же. Единение в опыте — на философском языке это можно назвать словом «одновременность». Понимание — не то, что происходит, когда встречаются двое, умеющие говорить, и это не какой-то результат правильных процедур. О том, что действительно понимают, обычно вообще трудно говорить. Истину, открывающуюся в мистериях, нельзя рассказать. И люди, прошедшие войну, не любят говорить о ней с теми, кто там не был. Пересказ был бы только пустыми словами. Понимание происходит не через какую-то дешифровку, а непосредственно: смотришь и видишь. Люди, например, когда читают книги, часто делают вот так: подводят знаки под свою знаковую систему, соединяют с ними определенные представления, но в этом нет никакого выхода за пределы себя. А чтобы было понимание — нужен этот выход, нужно позволить вещам и другим людям быть самими собой. Понимание — это прямое видение. Поэтому непонимание — это не интеллектуальная проблема. У. Блейк писал: «Не внемлют истине, покуда не поверят». То есть вначале нужно поверить, принять. Первично именно принятие. Я думаю, понимание — это во многих случаях вопрос принятия, которое позволяет увидеть. Понимать некое содержание чисто на интеллектуальном уровне — это другое, я не об этом говорю.
Разумов: Ну тем не менее «над вымыслом слезами обольюсь» — это Пушкин. Твою книгу начали читать — только начали! — и многие уже в слезах и солидаризируются с тобой. Я уверен, не только женщины будут это делать, я ведь по себе могу судить. Это очень заразительная проза, она пробирает помимо всех барьеров восприятия и вот этих семиотических ухищрений, условности любой речи и отстраняющей функции языка — и художественного языка тоже, который эту функцию может усиливать, но в таких вещах, наоборот, преодолевать.
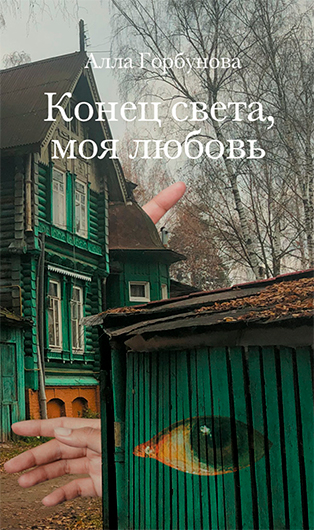
© «Новое литературное обозрение»
Горбунова: Я хотела бы, чтобы моя книга действительно была как некая реальность, как мир, и чтобы человек, читающий ее, поворачивался лицом к этой реальности. Для кого-то это останутся просто слова на бумаге… Но у меня, когда я писала эту книгу, была интенция, что это должны быть не слова, не литература, а какая-то достаточно оголенная жизнь, реальность. В какой-то момент, уже очень давно, возникло представление о «литературе» как таком внешнем объекте, от которого читатель находится на безопасной дистанции. Появился некий зазор, непроницаемый экран между читателем и текстом. Может быть, это было связано с тем, что в романах появился рассказчик и читатель стал наблюдать за происходящим как будто со стороны, с позиции внешнего наблюдателя. Читатель оказался в безопасной и отчасти «потребительской» позиции: написанное стало «литературой» и перестало восприниматься как мир, реальность. Я, скорее, хочу такую дистанцию, наоборот, убирать, хочу, чтобы моя книга была не «литературой», а формой жизни и поворачивала человека лицом к реальности, вернее даже, к Реальному. Книга сама должна быть реальностью.
Разумов: Энергией, может быть?
Горбунова: Может быть. Да. Слушай, я вспомнила: ты меня еще недавно на стриме, организованном «НЛО» по моей книге, спрашивал про мое отношение к романтизму. Мне тогда с ходу было трудно что-то сказать. Можем сейчас к этому вернуться, мне самой было бы интересно продумать свое отношение к романтизму. Я помню, когда мне было лет 20, делали сюжет про меня в новостях. Приехала внучка Лихачева, она журналист, делала этот сюжет. В общем, в этом сюжете меня снимали, я читала стихи, ходила по парку… Потом, когда показывали сюжет по телевизору, журналистка рассказывала про меня: «Она такая загадочная и романтичная…» Такие вещи — они как конфетная обертка, существующая для какого-то потребления: эта вся загадочность, романтичность. Какие-то штампованные вещи. И действительно: сказать про поэта, что он загадочный и романтичный, — это ничего, по сути, не сказать. Это ни о чем абсолютно. И если говорить о самом романтизме — я не до конца понимаю, что это такое. Я не знаю толком литературных критериев романтизма. Для меня это большое общекультурное движение, к которому я больше знаю философские подходы. Есть вещи, которые мне про него не совсем понятны. В частности, вот эта самая загадочность. Есть ли эта загадочность в самом романтизме? То есть делает он мир загадочным или, наоборот, его расколдовывает? Потому что, казалось бы, романтизм — это какие-то глубины, какой-то сумрак, что-то такое таинственное… С другой стороны, романтизм — это же изнанка Просвещения и на самом деле очень просвещенческая вещь. Это нововременное явление, и есть подозрение, что романтическое сознание как раз во многом продолжает работу по расколдовыванию мира. Есть такой современный философ Тимоти Мортон. Он занимается так называемой темной экологией. Сейчас есть много таких направлений современных: темная экология, темная онтология. Мортон говорит о том, что, с его точки зрения, романтизм сделал мир как раз более домашним и познаваемым. Потому что, если мы сталкиваемся с каким-то явлением природы или существом, всегда остается какая-то ужасающая неопределенность — что это за существо, что это за явление природы, как оно себя поведет. А в романтизме появляются какие-то метафоры, символы, и на самом деле это довольно рациональный подход. То есть за этими метафорами, символами мы как бы теряем кошмарную открытость самого реального, эту его неопределенность. И он это привязывает к экологии, говорит, что вроде бы в романтизме много мистики природы, но это на самом деле очень рациональная мистика, которая делает природу в чем-то домашней. Но, мне кажется, романтизм — это очень многоплановое движение. И одно дело — его вершины вроде Гофмана, Новалиса и др., а другое дело — какие-то усредненные романтические тексты. Ну или что общего между темной гениальностью Гофмана, мистическими прозрениями Новалиса и романтическим рационалистическим эгоцентризмом Байрона? У гениев романтизма нет этой объективации тайны. Там есть настоящий ужас, выход к кошмарной открытости самой реальности, прикосновение к запредельному.
Разумов: Ну вот я вспомнил «Песочного человека». «Песочного человека» ты, наверное, читала?
Там вот кукла… Я незнаком с этой концепцией романтизма как объективации тайны… Но у Гофмана такой поздний немецкий романтизм, там все-таки какая-то диалектика точно присутствует. С одной стороны, это кукла или вообще машина, ее разновидность. То, что нововременное, рацио, да? Человек создал эту куклу для обольщения рациональным способом, но ведь он какой-то такой действительно…
Горбунова: Гофман вообще гений, я его очень люблю. Денис его как-то назвал «темным Моцартом»: из преклонения перед Моцартом в 1805 году он даже сменил имя «Вильгельм» на «Амадей». У него реальное всегда стыкуется со сверхреальным, человеческое и не-человеческое существуют одновременно и переходят друг в друга. Я не имела в виду, что эта концепция Мортона про объективацию тайны, которую я привела, исключительно правильная. Я просто хотела сказать, что на романтизм можно по-разному посмотреть, не клишированно. Потому что, когда мы начинаем говорить, что в чьем-то творчестве есть следы романтизма, начинаются какие-то очень штампованные вещи. И когда говорят про меня и связь моих текстов с романтизмом — я опасаюсь, не имеют ли в голове каких-то таких клише, стереотипов. Я очень люблю Гофмана, Новалиса, в детстве одной из моих любимых книг были сказки немецких романтиков. Я думаю, многие романтики видели реальность гораздо лучше реалистов. Потому что они погружались во внутреннюю бездну. Для меня важен выход к Реальному, и меня смущает, когда о моих стихах говорят как о снах, о чем-то сугубо онейрическом. Александр Марков написал очень хороший отзыв на книгу «Пока догорает азбука»: он написал, что в моих стихах — как раз кошмарная открытость самой реальности. То есть там много сновидческого, визионерского, но все равно речь идет именно о Реальном.
Разумов: Но вскрытие каких-то связей, законов самой реальности через онейрическое, так?
Горбунова: Онейрическое может быть фокусом, через который видно Реальное. Нет такого противостояния: реальность повседневности — реальность сна. Они переходят друг в друга. Реальное может представать в реальности сна в большей мере, чем в реальности повседневности, а реальность повседневности может в большей мере оказываться сном, картинкой. Реальность повседневности не равна Реальному ни в коем случае.
Разумов: Вообще, один из первых подходов, вопросов, которые я хотел задать: что реально? Что для тебя реально, ты можешь сказать вот так с ходу? Или это предмет исследования?
Горбунова: Знаешь, называть это как объект — это будет как-то неправильно, в этом обязательно будет какая-то объективация, если я скажу, что вот это реально или вот то реально. Нужно создавать поэтическую или какую-то другую конфигурацию, в которой оно будет прорываться. То есть Реальное для меня — это, наверное, какой-то прорыв, разрыв. Есть какие-то вещи, которые мы говорим о себе, о мире, говорим себе и другим, а в этих вещах вдруг образуется какой-то разрыв, в который проникает что-то неописуемое, и когда оно прорывается — вообще непонятно, как об этом говорить.
Разумов: Нет, ну почему, это очень психоаналитично, это то, что Лакан называл «Реальное». Он так это, собственно, и описывает — как «разрыв» в цепочке означающих. Через эту метафору.
Горбунова: Да, но, когда читаешь Лакана, такое ощущение, что Реальное открывается только через какой-то ужас, что все это какое-то ужасное. Для меня это не совсем так.
Разумов: Не совсем или не всегда ужасное, но это сопровождается очень сильным аффектом. Ну, ужасное… оно может быть ужасным в том смысле, что ты немножко распадаешься в этот момент. То есть твои защиты, говоря совсем просто…
Горбунова: Да, это никуда не встроить, не превратить в какую-то картинку, рассказ. Поэзия может поворачивать к этому лицом, и она не обязана это делать посредством реалистического инструментария, она может это делать через образы, сколь угодно сновидческие. И, на самом деле, даже скорее через них, потому что это вечная проблема с реализмом: чем реалистичнее мы изображаем, тем меньше реальности может оказаться в конечном итоге.
Разумов: Да.
Горбунова: Вообще я часто слышу про неприятие каких-то вещей, которые ассоциируются с романтическим наследием, в современном литературном процессе. Мне кажется, сейчас преобладает такая позиция, что поэт — это исследователь, профессионал, который работает со словами и смыслами. И мне такая позиция чужда. Для меня в поэзии есть действительно что-то дикое, что-то странное, что-то, выходящее за пределы просто работы умного человека со словами и смыслами. Мне нужно, чтобы в этом была какая-то стихия. Прорывы неописуемого. Я не уверена, что это стоит возводить к романтизму как все-таки достаточно позднему нововременному явлению. Может быть, я хочу слышать в поэзии голос человечества титанов, а не интеллектуальные поиски новоевропейского человека. Это что-то гораздо более древнее, дикое и первобытное, но при этом оно смыкается и с тем, что сейчас интересует некоторых философов и поэтов.
Разумов: Мне кажется, что это проблема отсутствия языка, по-настоящему — какого-то метаязыка для описания того, что происходит с поэтом, когда он работает, когда он…
Горбунова: Да, я согласна. Отсутствует этот метаязык. Вообще меня очень интересует тема феноменологии творческого акта. Что происходит в момент собственно поэзиса. Сейчас многие говорят, что никакого вдохновения нет, что это все рационально работает. У меня абсолютно не так. У меня это работает интуитивно, на огромной скорости, с очень сильным внутренним импульсом и каким-то моментальным раскрытием мира. То есть вдохновение для меня — преображающее событие и важнейший источник познания, которое при этом является абсолютно естественной способностью человека.
Разумов: Ну вот, к сожалению, такие слова традиционные, романтические опять же, как «вдохновение», — они настолько девальвированы, настолько замылены…
Горбунова: Да. Они девальвированы, замылены, ну и имеет значение, кто их говорит и в каком контексте. Но эти слова сейчас произносят нечасто. Неоднократно я читала, как молодых поэтов спрашивают: как вы мыслите поэзию? И — видимо, это уже правило хорошего тона — они неизменно отвечают: конечно, мы не романтические гении, конечно, этого всего не существует. Мы просто работаем, складываем слова, проводим своего рода исследование. Работники культуры. Но всегда есть вещи, которые не вписываются в установленную культурную рамку. Я понимаю, молодые поэты хотят быть современными, адекватными профессиональному сообществу, хотят найти свое место в нем, а не быть в глазах профессионального сообщества какими-то фриками. Однако для меня эти слова о поэте-профессионале воспринимаются как такое же общее место, как слова про мятежного романтика, противопоставляющего себя толпе, и в современном контексте — как нечто очень конвенциональное. И все это как-то мимо.
Разумов: Мимо, да. Но мы опять уперлись в проблему отсутствия языка, потому что традиционная филология, ну, русская филология, которая началась с формальной школы, немного раньше… Она, к сожалению… Это было триста лет назад, и это все надо пересматривать и создавать новые концепции. А тебе близки какие-то поэты старых времен? Донововременные какие-нибудь. Скальды там, не знаю, Шекспир?
Горбунова: Да, я это все очень люблю. Шекспир уже XVI–XVII век, Возрождение, но я это все очень люблю. А вот как раз одного из самых известных романтиков — Байрона — я терпеть не могу.
Разумов: Байрон — это вот чисто российское явление, знаешь, в Англии Байрон никому на фиг не нужен. Там Блейк, наверное, один из самых главных поэтов, ну и Шекспир.
Горбунова: Блейк вообще один из моих самых любимых поэтов. И я люблю читать всякие древние эпосы, этническую шаманскую поэзию…
Разумов: Фольклор?
Горбунова: Да, что-то такое. Но куда-то мы от обсуждения книги уже ушли далеко. О чем мы говорили? О понимании, о том, что люди солидаризируются с книгой?
Разумов: Да, вообще сейчас очень много людей, особенно в литературе, в поэзии, в каких-то передовых политических движениях… людей травмированных, и очень глубоко травмированных. Это видно просто по Фейсбуку.
Горбунова: Но, Петя, видишь, я все-таки думаю, что в моей книге нет того, что сейчас называют проговариванием травм. Я вообще очень не люблю слово «проговаривание», его часто употребляют. Я не вижу вообще никакого смысла что-то проговаривать. Выражать что-то — да. Но вот проговаривать — нет. В моей книге, конечно, есть опыт, который травматичен — и даже крайне травматичен. Вообще травматический опыт — это широкое понятие. Мышка пробежала, хвостиком махнула — у человека уже травма. То есть не требуется экстремального опыта, чтобы была травма. Конечно, в этой книге есть очень тяжелый, болезненный, меняющий, преображающий, экстремальный опыт. Но я не считаю это проговариванием травмы как раз потому, что для меня истории, рассказанные в этой книге, — это встреча с жизнью, встреча с реальностью. В какой-то ипостаси это захватывающее приключение. Это не про то, как я страдала и хочу рассказать о своих страданиях. Это про то, как я встретила жизнь и познавала ее. И то «я», которое стоит за этими историями, — это «я», которое не пытается как-то сберечь свои личные границы, а, как отметил в своей замечательной рецензии Юрий Сапрыкин, способно расширять себя на огромные пространства. Мне кажется, там есть бесстрашие и готовность к встрече с очень радикальным, меняющим опытом. И это не похоже на то, как обычно говорят о травме, которую пытаются проработать, как-то от нее излечиться. Такого совсем нет.
Разумов: Да-да, и получается, что ответ на вопрос: «Где границы допустимого?» — их нет.
Горбунова: Мне вообще нравится идея, когда границ нет.
Разумов: Ну, границы — это сейчас модный термин, он, конечно, весьма сомнительный. Да, я согласен. Кто-то считает, что его границы здесь, а другой — что они вот здесь. И как бы… Причем взаимоналожением мы выясняем, что они повсюду и, значит, нигде.
Горбунова: Получается какой-то космический масштаб. Ты расширяешь свои границы или выходишь за их пределы, туда, где ты уже не знаешь, где ты, а где звезды…
Разумов: То, что ты описываешь, похоже на мистический опыт, да? Выход куда-то, в какой-то космос условный. Туда, где кончаются земные смыслы.
Горбунова: Да.
Разумов: Я сейчас вспоминаю свой некоторый опыт.
Горбунова: Да, наверное, мне интересен выход к чему-то такому, который может происходить через самые простые бытовые истории. Не обязательно через какой-то трип, вещества или религиозный экстаз: что-то бесконечное может в самых разных, простых вещах открываться.
Разумов: Но сам термин «опыт» для тебя рабочий? Потому что я тут недавно был на одном заседании ребят из ЕУ, и Йоэль Регев, левый интеллектуал, заявил, что «личный опыт» — это последнее пристанище буржуазного мышления, что-то такое…
Горбунова: Термин «опыт» для меня рабочий, но без приставки «личный», я бы сказала. Потому что буржуазно — это когда ты хочешь себе какой-то участочек частного опыта, на котором ты поставил забор от всего, что происходит вокруг. Я как раз против каких-то границ, заборов. Опыт, как я его понимаю, — это совсем не то же самое, что какие-то личные переживания. Вообще опыт — не переживания, тем более не личные переживания. Опыт — это не что-то, огороженное забором, это, наоборот, выход из себя наружу.
В поэзии опыт — это не опыт чего-то содержательно определенного, у него нет конкретного объекта. Его можно назвать опытом бытия или небытия или экстремумом присутствия. Есть книга Лаку-Лабарта «Поэзия как опыт». Мне она очень понравилась, вот он там пишет:
«Ничто не проживается в этом опыте, как в любом другом, ибо каждый опыт есть опыт небытия» или «…вся поэзия — не что иное, как желание, намерение высказать. Но высказать ничто, небытие, то, благодаря чему и в противовес чему существует настоящее, наличное». То есть в этом смысле, когда идет речь о поэзии и опыте, опыт — это не переживание, не душевное состояние, которое передает поэт, не самовыражение. Там же Лаку-Лабарт упоминает об этимологических корнях слова «опыт» в латинском: ex-periri — «прохождение через опасность». Он пишет: «Я говорю “опыт”, потому что стихи “проистекают” из памяти об ослепляющем потрясении или из самого этого потрясения, “головокружения”, забытья. Из того, чего не было, что не случилось, не произошло, когда происходило то самое конкретное событие, с которым они соотносятся, но которого до нас не доносят». Вот, собственно, в таком смысле я понимаю опыт.
Разумов: Как классно, да, классно…
Горбунова: Я не знаю, это понятная мысль?
Разумов: Да, это понятно. То есть это некая змея, которую ты никогда не можешь поймать, но ты ее ловишь на каком-то другом уровне.
Горбунова: Да.
Разумов: Та, которую сложно определить, потому что никакой формы, да, словесной формы в том числе, она не схватывает.
Горбунова: Да.
Разумов: Но при этом схватывается. Вот именно в силу художественности самого проекта.
Горбунова: Да-да-да.
Разумов: Да. Я абсолютно согласен. И — возвращаясь к нашему разговору об отсутствии метаязыка — поэтому он и невозможен. Потому что это должен быть не язык. Вот. А что-то совершенно другое. Поэтому, в принципе, какая-то критика, филология — это очень условные, скажем так, гуманитарные практики, они стоят, собственно, на песке. Их пафос заключается в том, что мы можем все посчитать, определить и выстроить иерархию, там, допустим: Пушкин — первый, Есенин — последний, условно говоря. Или синтезировать даже. Эти «формальные школы» — когда начиналось, это же была часть большого проекта по обустройству на Земле. Как часть, может быть, социалистического проекта, в какой-то момент они точно встроились в это дело. То есть некая «формальная школа» должна была обеспечить технологиями молодых рапповцев, не знаю, студентов Литинститута, образованного Горьким, и так далее. Вот эти все проекты — они ввиду самой оксюморонистичности задачи не воплотились. Дело даже не в том, что они утопичны, потому что некоторые компоненты утопии все-таки могут реализовываться так или иначе… И поэтому так тяжело говорить о литературе, даже о конкретной книге, потому что передать вот эту энергию, которую ты получаешь, другому человеку… опять же в силу того, что понимание очень проблематично, как его передать? Я вот только разговаривал в ФБ с девушкой, которая написала нечто негативное о стихах Гали Рымбу. Написала, что слабо. Я пишу: «В чем сила, брат?» — она пишет: «Мастерство, новаторство, чутье», еще что-то. И я пишу, что это общие слова, которые ничего не обозначают, потому что любые формальные признаки красивости можно имитировать. И можно внушить критику, филологу, что это там есть. Он это там найдет. И вот через этот договор, совершенно порочный, и существует большая часть литературы, то, что Верлен назвал «все прочее — литература».
Горбунова: Меня вообще всегда очень пугало, когда какие-то люди, особенно имеющие какой-то там филологический, лингвистический инструментарий, ведут себя так и искренне думают, что они могут доказать, где настоящая поэзия, где ненастоящая, где хорошая, где плохая, — путем анализа языка или чего-то такого. Мне кажется, что вообще в этом есть что-то преступное — когда человек думает, что он на это способен, имея какой-то инструментарий. Какая-то нечестность и непонимание того, что все это такое на самом деле… Но, конечно, тут ничего никому не докажешь. И, наверное, не нужно доказывать.
Разумов: Вот тут интересный момент, да: нужно или не нужно?
Горбунова: Всю жизнь потратишь, если начнешь доказывать, уже никогда не остановишься.
Разумов: Это правда, да, это не наше дело, по сути.
Горбунова: Вот если человек прочитал какую-то книгу, понял ее, почувствовал и написал, например, на нее отзыв, рецензию — это может помочь кому-то другому, кто прочитает эту книгу, тоже что-то понять, почувствовать. Делиться своим пониманием мы можем, а спорить, наверное, смысла нет. Для меня поэзия — это вообще в огромной степени не вопрос языка. И язык у поэзии может быть очень разный. Он может быть и такой, что в нем вроде ничего особенного и нет, достаточно бедный, стертый, но это может быть великая поэзия при этом. И какие-то приемы, какое-то очевидное на уровне техники новаторство — для меня это совершенно не имеет отношения к сути дела. Я, честно говоря, никогда не интересовалась филологией. Я философию изучала. Философия — вот это мне было интересно. И как философы говорят о литературе, мне очень часто бывает интересно. Но когда выдающиеся филологи говорят о литературе — это тоже бывает интересно. Вот когда-то я присутствовала при том, как покойный [Борис] Аверин давал интервью. И он говорил довольно много о Набокове, которого я на тот момент даже не читала и которым не особо интересовалась, но, просто слушая его речь, я переживала какое-то откровение. Это было что-то действительно очень впечатляющее. Он как-то просто, стихийно рассказывал о жизни, о своем опыте чтения литературы, приводил какие-то истории, через которые для него раскрывались те или иные произведения, и это было что-то действительно потрясающее.
Разумов: То есть такой своеобразный дневник чтения.
Горбунова: Он соотносил опыт литературы с жизнью в широком смысле, со своей жизнью, со всем, что есть на свете. В том, как он говорил, было какое-то взаимоперетекание того, что было написано в этих произведениях, и того, что происходило в каких-то сокровенных глубинах его жизни. И становилось понятно, что этой границы, в общем, и нет, все переходит друг в друга. Видишь, мы, с одной стороны, ничего никому доказать не можем, а с другой стороны, есть опасность психологизировать это все, сказать, что все субъективно, как сейчас часто говорят. Сейчас же все время говорят, что никакого объективного критерия нет, что одному — то, другому — се… И я думаю, что это неправда, потому что это не совсем так. У смысла есть какая-то универсальность, можно сказать, интерсубъективная универсальность. Сейчас не принято так думать, обычно на все смотрят с субъективистской точки зрения, с точки зрения скептицизма... А я просто знаю, что в поэтическом мышлении есть какие-то действительно общезначимые вещи, которые нельзя субъективировать. Ну как вот у математиков: у них же есть в математике некая универсальность. И в поэзии она тоже есть. Но она совершенно по-другому создается, чем в математике. Через какие-то совершенно другие вещи. Но при этом сказать, что это полностью произвол, — нет, ни в коем случае. Общезначимость и универсальность поэзии иная, чем универсальность идеальных объектов математики, но благодаря этой универсальности смысла поэзия гораздо ближе к математике, чем, например, к журналистике. Я думаю, что мышление философа, поэта и математика восходит, пусть и по-разному, к универсальности смысла.
Разумов: Я вспоминал тут фразу Мандельштама «Поэзия — это чувство собственной правоты». Мне кажется, что вот чувство собственной правоты — это совсем особое чувство. Тут дело не в субъективности, а в том, что ты просто что-то увидел, я не знаю, гриб или там Христа.
Горбунова: Да. Ты просто видишь.
Разумов: Ты его просто видишь и записываешь — и больше ничего не делаешь.
Горбунова: Ну да, я просто хочу сказать, что то, что ты видишь, — это не твоя индивидуальная галлюцинация. То, что ты видишь, — это правда.
Разумов: Но ты же ее видишь.
Горбунова: Да, но можно видеть и сугубо собственные порождения. А тут ты видишь что-то, выходящее за рамки твоего индивидуального опыта. Ты видишь вещи, статус которых имеет какую-то общезначимость.
Разумов: Да. Но, безусловно, можно к этой фразе прицепиться и сказать, что последний графоман убежден в собственной правоте точно так же, как и большой поэт. Ну, тут опять мы бессильны совершенно. Либо ты видишь, что человек видит, либо ты не видишь вообще ничего там…
Горбунова: Мне иногда кажется, что графоман и большой поэт — они как раз да, чувствуют свою правоту, а вот какой-то не очень большой поэт, но и не графоман, а такой как бы «средний профессионал», который в большей степени понимает поэзию как какую-то культурную работу со смыслами и языком и ориентируется на существующие конвенции, существующие культурные рамки, — у него меньше чувства этой внутренней правоты. У графомана и большого поэта может быть даже больше точек пересечения.
Разумов: Может быть, это можно назвать какой-то наглостью. То есть это какое-то более низкое чувство, чувство какой-то политической правоты, да. Я такой же, как он, тоже хочу себе памятник. Это интересно. Мы тут пришли к вопросу веры, получается. То есть как Иисус говорил: просто верь в меня — и все.
Я хотел, наверное, еще один вопрос задать, который не относится к этой ветке. Мне очень интересно, как ты понимаешь природу, ну вот лес, например. Что такое лес? Можно что-то о нем сказать внятное?
Горбунова: Лес — это что-то, с чем у меня происходит живое взаимодействие. Когда я вхожу в лес, я его чувствую. Я его чувствую как какое-то сложное пространство, какой-то сложный организм. Я в нем более органично себя ощущаю, чем в городском ландшафте, чем в городе. Это какой-то очень сложный живой организм, в котором есть место для меня, в котором я могу быть. И который как раз ставит меня в каком-то смысле перед лицом нечеловеческой реальности: вот камни, вот их фактура, камень просто такой, какой он есть, или дерево… Какая-то завораживающая материальность этого всего. Лес — он дикий, странный, он сам по себе, какое-то непонятное, нечеловеческое присутствие. Нет задачи его обжить, переделать под себя, как-то рационализировать. Вот он такой, странный, дикий, и ты приходишь в него и тоже понимаешь, что ты тоже какой-то странный, дикий. Ты тоже познаешь что-то о себе, понимаешь, кто ты такой вообще, кто ты есть в своей дикой, скрытой от мира ипостаси. Я очень люблю лес, я его не боюсь. При том что какое-то присутствие ужаса рядом я могу ощущать в лесу. Но это тот ужас, которым человек боится сам себя. Человек для своего тела в некотором смысле чужой, захватчик, эго, личность, которая как бы насилует зверски это тело. Эго, само являясь иллюзорным образованием, фантомным, захватывает тело, и человек страшится себя понять вот в этой чуждости, телесности. Потому что сразу возникает реальность, сразу возникает смерть… Мы, конечно, психические существа, но вот от существования в смыслах ты как будто просыпаешься на какой-то момент и вдруг испытываешь чувство реальности, чувство, что это все просто есть. Ты есть как тело, есть камни, есть деревья, есть физическая боль, есть смерть. Мы часто живем как бы в каком-то внутреннем царстве, где мы занимаемся какой-то смысловой деятельностью. Вдруг ты выпадаешь из этого внутреннего царства во внешнее, и это внешнее действительно может быть сопряжено с каким-то ужасом, и лес способствует этому переживанию. Как будто внутренние двери раскрываются, и ты из своего привычного сознания выпадаешь в эту странную, дикую, неописуемую реальную жизнь.
Разумов: Получается, психика более спокойная, комфортная среда, даже, может быть, благостная, а тело — наоборот — травматично…
Горбунова: Нет, я так не думаю, что психика — благостная среда. Она не благостная, она же может быть и очень беспокойная, калечащая.
Разумов: Но получается, что психика охраняет что-то там, как в такой иллюзии безопасности, может быть, нет?
Горбунова: Есть разные виды ужаса. У психики свой ужас. Психика боится посмотреть в зеркало. Психике трудно понимать свою природу. Мне иногда бывает жалко тело. Иногда кажется, что оно страдает, как в фильмах про одержимых детей, которые бьются в припадках, — всякие там «Изгоняющие дьявола», все такое. Куча таких фильмов, в которых такой сюжет: чужой захватил мое бедное тело и черт-те что творит.
Разумов: Нет, теория чужого в теле понятна, да, но для меня неожиданно, что природа оказывается таким некомфортным местом. И даже некомфортным — это слабо, потому что получается, что она такая прямо разрушительная, хотя, с другой стороны, если психика — чужой, то…
Горбунова: Она не разрушительная, просто когда мы находимся в состоянии смыслового отношения ко всему, то выпадение из этого состояния может быть пугающим. Я не думаю, что природа разрушительная, она просто такая, какая она есть. Мне в ней проще, чем в социальном мире. Для меня социальный мир разрушителен. Социальный мир для меня — это вообще не знаю что, это ад, странные игры, правила, ложь, какие-то калечащие штуки. А природа — она просто вот такая, какая она есть. Ну да, в ней есть что-то нечеловеческое, но в нас самих есть что-то нечеловеческое. Вот этому нечеловеческому в нас хорошо в природе, а человеческому в нас может быть некомфортно.
Разумов: Понятно.
Горбунова: Человеческое в нас часто хочет увидеть природу как свое зеркало, зеркало каких-то своих настроений, аффектов, своей психической жизни. Хочет ее под себя подделать.
Разумов: Одомашнить.
Горбунова: Одомашнить, да. Я думаю, это неправильно, с ней надо взаимодействовать с такой, какая она есть. Мне в принципе интересно нечеловеческое измерение вокруг и в самих людях. Может быть, это нечеловеческое в людях в каком-то смысле самым человеческим и является. У меня в книге «Пока догорает азбука» есть короткое стихотворение про любовь, называется «Крик»:
не-человеческое
любим мы в человеке
даймон скрытый внутри
желает другого даймона
его любовь —
крик сквозь все людское
Внутри живет даймон, который кричит и хочет, чтобы его услышал какой-то другой даймон.
Разумов: Даймон — это демон, да?
Горбунова: Ну, не обязательно демон в христианском смысле. В древнегреческом, скорее. У Сократа был свой даймон.
Разумов: Ну, тут я уже не специалист. Да, интересно. Я вспомнил вот по поводу этого сюжета: кто-то в ФБ пересказывал сюжет рассказа Брэдбери, как чудище, которому миллион лет, живет в самой-самой глубине моря и вдруг слышит крик такого же чудища. И оно долго-долго поднимается на поверхность, испытывая всякие трудности. И, когда оно выползает на берег, оно видит, что это просто сигнал какого-то маяка, искусственный. И оно все это уничтожает, крушит.
Горбунова: Да, это здорово, это классный сюжет. Знаешь, это ведь тоже про понимание, например, как происходит понимание книги. Книга, написанная мной, — для меня это и есть крик чудища на дне моря. Это чудище на дне моря кричит, а кто-то другой читает эту книгу, и морское чудище в нем закричит в ответ, и эти два крика чудищ могут встретиться, они могут услышать друг друга. Но, конечно, всегда может оказаться, что крик другого чудища — это маяк.
Разумов: Ну вот это — прекрасная метафора, и, я думаю, тут мы закончим. То есть проблема понимания все-таки одна из ключевых в том деле, которым мы заняты. Несмотря на то что мы сильно сомневаемся, что оно возможно, мы, как это чудище… все-таки «надежда умирает последней». Можно потерять любовь, потерять веру, но природа человека такова, что надеяться он все равно до самого последнего вздоха на что-то будет. Мне так кажется. Да?
Горбунова: Наверное, да. Я читала какой-то апокриф, где Адама с Евой изгнали из рая, черт им сказал, что все плохо, а кто-то там сказал черту: «Никогда нельзя отнимать у человека надежду». Да, надежду никогда отнимать нельзя.
Петр Разумов: Один из вопросов, с которого я хотел начать… для меня это вопрос, который возникает после чтения твоей последней книжки прозы [«Конец света, моя любовь»]. Где границы допустимого?
Алла Горбунова: А в каком смысле допустимого? Этически, эстетически? Что ты имеешь в виду?
Разумов: Для меня это комплекс вопросов. Думаю, прежде всего это вопрос о норме. Что является, допустим, нормой поведения? В психологическом и общегуманитарном смысле. Ну вот, например: я недавно прочитал книжку Сержио Бенвенуто «Перверсии». И там в финале очень интересное место. По сути, все перверсии, которые описывал Фрейд… их больше, но те, которые он описал, давно нормализированы. Это часть допустимого поведения. Так что это книга не об «извращениях», как это можно перевести на русский, а о субъектности как таковой, которая конституируется через перверсию в том числе. И основной перверсией является так называемый моральный мазохизм. И вот Бенвенуто пишет в конце, что Фрейду так и не удалось вписать моральный мазохизм в теорию влечений. То есть в собственную теорию. Он оказался как бы предзадан. А что такое «моральный мазохизм»? Это то, о чем писал Ницше: ресентимент, «нечистая совесть» — это то, что лежит в основе христианской души. Концепция первородного греха: ты виноват как бы уже заранее. И если посмотреть на какие-то важные социальные движения, «снежинки» так называемые… Слышала такое слово? Это молодые люди, которые очень уязвимы, которые требуют к себе уважительного отношения. Они во всем видят какую-то агрессию, токсичность и так далее. Вот они не готовы страдать. Как бы страдать изначально. Их позиция: мы не будем подчиняться и не будем подчинять. Они какие-то люди уже постхристианские. И это появляется. Это то, что Мишель Фуко, например, назвал «смерть субъекта». Не очень было тогда понятно, о чем речь, а сейчас просто уже социальные процессы показывают, что субъектность классическая меняется. Ее даже можно назвать капиталистической, потому что то, что описал Фрейд в работе «По ту сторону принципа удовольствия», — это капиталистическая экономика. Но она является частью глобальной, христианской в своей основе.
Горбунова: А ты думаешь, вся эта тема с попыткой построить максимально безопасное пространство — это не связано с капитализмом? Мне как раз кажется, что такой тип чувственности вырабатывается именно в позднем капиталистическом обществе. Коммунистическая чувственность — она другая, открытая, не индивидуалистическая.
Разумов: Да, но как возможна вот эта открытость? Ну, например, один из частных вопросов: как возможна солидарность? Через что? Через договор? Через, не знаю, слово? То есть через ум, через слово, через чувства? На каком уровне мы солидаризируемся, чтобы договориться? Чтобы не быть друг для друга «токсичными», допустим. Нам же нужно каким-то образом договориться об этом?
Горбунова: Вот хотелось бы верить, что можно обо всем договариваться, но весь мой жизненный опыт опровергает это.
Разумов: Вот-вот. Я специально такую тираду выставил, потому что тут масса локальных проблем. Например, проблема понимания. Только вчера написал об этом стишок. Возможно ли в принципе понимание? Оно ведь невозможно, ну, к таким выводам многие приходят, да?
Горбунова: С одной стороны, совершенно необходимо осуществлять попытки договариваться. С другой стороны, какой-то уверенности в успехе совсем нет. Но, мне кажется, в этом деле какие-то маленькие победы — это уже очень здорово, если что-то где-то получается.
Разумов: Мне кажется, раньше люди солидаризировались через травмы. Через травматический опыт. И это продолжает работать. А может, не продолжает. Вот феминистки подозрительно относятся, допустим, к мужчинам в своей среде.
Горбунова: Да не факт. По-разному, феминистки очень разные.
Разумов: Тем не менее мужчина-феминист — он как бы невозможен в силу…
Горбунова: Почему? Возможен, есть очень много.
Разумов: Профем, профем.
Горбунова: Я не очень разбираюсь в этом вопросе, но мне кажется, что это не только женское движение, что это вообще очень важное культурное движение, которое и для мужчин доступно.
Разумов: А как мужчина солидаризируется с женщиной? Он может иметь такой же опыт травмы или насилия? А если он не имеет такого опыта, то как он понимает женщину, которая это испытывает?
Горбунова: Вообще как один человек понимает другого? Может, он просто видит, что происходит с этой женщиной? Смотрит и видит? Если он не хочет видеть — он отвернется, но ведь он же может увидеть и понять. Может не отворачиваться. Вот что-то происходит с нами, наши переживания неограниченно перетекают одно в другое, пребывая в некой неразличенности. Чтобы переживание стало осмысленным, оно должно быть выхвачено из общего потока и обрести свою определенность: именно этот смысл, это событие, это переживание. Одно становится отличным от другого, когда мы обращаем на него свой взгляд, свое внимание. Наше обращение взгляда — это уже не непосредственное восприятие единого потока, оно предполагает уже завершенное, случившееся, прошедшее переживание. Поэтому мы всегда имеем дело как с определенным только с прошлым. И получается, что весь наш различенный опыт и мир, о котором мы можем что-то сказать, оказываются всегда прошлым. И реальность, которую мы понимаем и осмысляем, — это прошлое, воспоминание. В настоящем мы живем, но мы его не видим. Но в этом прошлом всегда чего-то не хватает, притом, может быть, самого главного. Это то, что не поддается определению, то, к чему мы всегда опоздали. В конечном счете все всегда опоздали к своим самым главным событиям, и назвать их мы тоже едва ли можем, они ускользают, как неуловимые прикосновения. И, что касается понимания, получается вот что. Мои переживания даны мне как прошлое, и другому его переживания тоже даны как прошлое, но при этом мои переживания могут быть даны другому, как и мне его переживания, в настоящем. Мы не видим в настоящем своих переживаний, но можем увидеть переживания другого, которых он сам не видит. То есть мы можем увидеть то, что происходит с другим, так, как никогда не будет доступно ему самому. Парадоксальная ситуация: чтобы увидеть свои собственные переживания — мы слепы, пока не вычленим их из потока, не превратим в прошлое, но нам не нужно это делать с переживаниями другого, их мы просто «видим» в их протекании. И вот это «просто видим» и есть единение в опыте, а не то, когда мы переживаем одно и то же. Единение в опыте — на философском языке это можно назвать словом «одновременность». Понимание — не то, что происходит, когда встречаются двое, умеющие говорить, и это не какой-то результат правильных процедур. О том, что действительно понимают, обычно вообще трудно говорить. Истину, открывающуюся в мистериях, нельзя рассказать. И люди, прошедшие войну, не любят говорить о ней с теми, кто там не был. Пересказ был бы только пустыми словами. Понимание происходит не через какую-то дешифровку, а непосредственно: смотришь и видишь. Люди, например, когда читают книги, часто делают вот так: подводят знаки под свою знаковую систему, соединяют с ними определенные представления, но в этом нет никакого выхода за пределы себя. А чтобы было понимание — нужен этот выход, нужно позволить вещам и другим людям быть самими собой. Понимание — это прямое видение. Поэтому непонимание — это не интеллектуальная проблема. У. Блейк писал: «Не внемлют истине, покуда не поверят». То есть вначале нужно поверить, принять. Первично именно принятие. Я думаю, понимание — это во многих случаях вопрос принятия, которое позволяет увидеть. Понимать некое содержание чисто на интеллектуальном уровне — это другое, я не об этом говорю.
Разумов: Ну тем не менее «над вымыслом слезами обольюсь» — это Пушкин. Твою книгу начали читать — только начали! — и многие уже в слезах и солидаризируются с тобой. Я уверен, не только женщины будут это делать, я ведь по себе могу судить. Это очень заразительная проза, она пробирает помимо всех барьеров восприятия и вот этих семиотических ухищрений, условности любой речи и отстраняющей функции языка — и художественного языка тоже, который эту функцию может усиливать, но в таких вещах, наоборот, преодолевать.
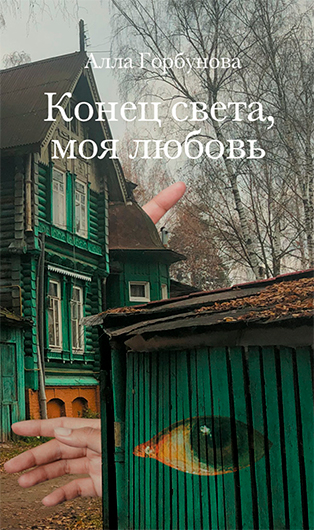
© «Новое литературное обозрение»
Горбунова: Я хотела бы, чтобы моя книга действительно была как некая реальность, как мир, и чтобы человек, читающий ее, поворачивался лицом к этой реальности. Для кого-то это останутся просто слова на бумаге… Но у меня, когда я писала эту книгу, была интенция, что это должны быть не слова, не литература, а какая-то достаточно оголенная жизнь, реальность. В какой-то момент, уже очень давно, возникло представление о «литературе» как таком внешнем объекте, от которого читатель находится на безопасной дистанции. Появился некий зазор, непроницаемый экран между читателем и текстом. Может быть, это было связано с тем, что в романах появился рассказчик и читатель стал наблюдать за происходящим как будто со стороны, с позиции внешнего наблюдателя. Читатель оказался в безопасной и отчасти «потребительской» позиции: написанное стало «литературой» и перестало восприниматься как мир, реальность. Я, скорее, хочу такую дистанцию, наоборот, убирать, хочу, чтобы моя книга была не «литературой», а формой жизни и поворачивала человека лицом к реальности, вернее даже, к Реальному. Книга сама должна быть реальностью.
Разумов: Энергией, может быть?
Горбунова: Может быть. Да. Слушай, я вспомнила: ты меня еще недавно на стриме, организованном «НЛО» по моей книге, спрашивал про мое отношение к романтизму. Мне тогда с ходу было трудно что-то сказать. Можем сейчас к этому вернуться, мне самой было бы интересно продумать свое отношение к романтизму. Я помню, когда мне было лет 20, делали сюжет про меня в новостях. Приехала внучка Лихачева, она журналист, делала этот сюжет. В общем, в этом сюжете меня снимали, я читала стихи, ходила по парку… Потом, когда показывали сюжет по телевизору, журналистка рассказывала про меня: «Она такая загадочная и романтичная…» Такие вещи — они как конфетная обертка, существующая для какого-то потребления: эта вся загадочность, романтичность. Какие-то штампованные вещи. И действительно: сказать про поэта, что он загадочный и романтичный, — это ничего, по сути, не сказать. Это ни о чем абсолютно. И если говорить о самом романтизме — я не до конца понимаю, что это такое. Я не знаю толком литературных критериев романтизма. Для меня это большое общекультурное движение, к которому я больше знаю философские подходы. Есть вещи, которые мне про него не совсем понятны. В частности, вот эта самая загадочность. Есть ли эта загадочность в самом романтизме? То есть делает он мир загадочным или, наоборот, его расколдовывает? Потому что, казалось бы, романтизм — это какие-то глубины, какой-то сумрак, что-то такое таинственное… С другой стороны, романтизм — это же изнанка Просвещения и на самом деле очень просвещенческая вещь. Это нововременное явление, и есть подозрение, что романтическое сознание как раз во многом продолжает работу по расколдовыванию мира. Есть такой современный философ Тимоти Мортон. Он занимается так называемой темной экологией. Сейчас есть много таких направлений современных: темная экология, темная онтология. Мортон говорит о том, что, с его точки зрения, романтизм сделал мир как раз более домашним и познаваемым. Потому что, если мы сталкиваемся с каким-то явлением природы или существом, всегда остается какая-то ужасающая неопределенность — что это за существо, что это за явление природы, как оно себя поведет. А в романтизме появляются какие-то метафоры, символы, и на самом деле это довольно рациональный подход. То есть за этими метафорами, символами мы как бы теряем кошмарную открытость самого реального, эту его неопределенность. И он это привязывает к экологии, говорит, что вроде бы в романтизме много мистики природы, но это на самом деле очень рациональная мистика, которая делает природу в чем-то домашней. Но, мне кажется, романтизм — это очень многоплановое движение. И одно дело — его вершины вроде Гофмана, Новалиса и др., а другое дело — какие-то усредненные романтические тексты. Ну или что общего между темной гениальностью Гофмана, мистическими прозрениями Новалиса и романтическим рационалистическим эгоцентризмом Байрона? У гениев романтизма нет этой объективации тайны. Там есть настоящий ужас, выход к кошмарной открытости самой реальности, прикосновение к запредельному.
Разумов: Ну вот я вспомнил «Песочного человека». «Песочного человека» ты, наверное, читала?
Там вот кукла… Я незнаком с этой концепцией романтизма как объективации тайны… Но у Гофмана такой поздний немецкий романтизм, там все-таки какая-то диалектика точно присутствует. С одной стороны, это кукла или вообще машина, ее разновидность. То, что нововременное, рацио, да? Человек создал эту куклу для обольщения рациональным способом, но ведь он какой-то такой действительно…
Горбунова: Гофман вообще гений, я его очень люблю. Денис его как-то назвал «темным Моцартом»: из преклонения перед Моцартом в 1805 году он даже сменил имя «Вильгельм» на «Амадей». У него реальное всегда стыкуется со сверхреальным, человеческое и не-человеческое существуют одновременно и переходят друг в друга. Я не имела в виду, что эта концепция Мортона про объективацию тайны, которую я привела, исключительно правильная. Я просто хотела сказать, что на романтизм можно по-разному посмотреть, не клишированно. Потому что, когда мы начинаем говорить, что в чьем-то творчестве есть следы романтизма, начинаются какие-то очень штампованные вещи. И когда говорят про меня и связь моих текстов с романтизмом — я опасаюсь, не имеют ли в голове каких-то таких клише, стереотипов. Я очень люблю Гофмана, Новалиса, в детстве одной из моих любимых книг были сказки немецких романтиков. Я думаю, многие романтики видели реальность гораздо лучше реалистов. Потому что они погружались во внутреннюю бездну. Для меня важен выход к Реальному, и меня смущает, когда о моих стихах говорят как о снах, о чем-то сугубо онейрическом. Александр Марков написал очень хороший отзыв на книгу «Пока догорает азбука»: он написал, что в моих стихах — как раз кошмарная открытость самой реальности. То есть там много сновидческого, визионерского, но все равно речь идет именно о Реальном.
Разумов: Но вскрытие каких-то связей, законов самой реальности через онейрическое, так?
Горбунова: Онейрическое может быть фокусом, через который видно Реальное. Нет такого противостояния: реальность повседневности — реальность сна. Они переходят друг в друга. Реальное может представать в реальности сна в большей мере, чем в реальности повседневности, а реальность повседневности может в большей мере оказываться сном, картинкой. Реальность повседневности не равна Реальному ни в коем случае.
Разумов: Вообще, один из первых подходов, вопросов, которые я хотел задать: что реально? Что для тебя реально, ты можешь сказать вот так с ходу? Или это предмет исследования?
Горбунова: Знаешь, называть это как объект — это будет как-то неправильно, в этом обязательно будет какая-то объективация, если я скажу, что вот это реально или вот то реально. Нужно создавать поэтическую или какую-то другую конфигурацию, в которой оно будет прорываться. То есть Реальное для меня — это, наверное, какой-то прорыв, разрыв. Есть какие-то вещи, которые мы говорим о себе, о мире, говорим себе и другим, а в этих вещах вдруг образуется какой-то разрыв, в который проникает что-то неописуемое, и когда оно прорывается — вообще непонятно, как об этом говорить.
Разумов: Нет, ну почему, это очень психоаналитично, это то, что Лакан называл «Реальное». Он так это, собственно, и описывает — как «разрыв» в цепочке означающих. Через эту метафору.
Горбунова: Да, но, когда читаешь Лакана, такое ощущение, что Реальное открывается только через какой-то ужас, что все это какое-то ужасное. Для меня это не совсем так.
Разумов: Не совсем или не всегда ужасное, но это сопровождается очень сильным аффектом. Ну, ужасное… оно может быть ужасным в том смысле, что ты немножко распадаешься в этот момент. То есть твои защиты, говоря совсем просто…
Горбунова: Да, это никуда не встроить, не превратить в какую-то картинку, рассказ. Поэзия может поворачивать к этому лицом, и она не обязана это делать посредством реалистического инструментария, она может это делать через образы, сколь угодно сновидческие. И, на самом деле, даже скорее через них, потому что это вечная проблема с реализмом: чем реалистичнее мы изображаем, тем меньше реальности может оказаться в конечном итоге.
Разумов: Да.
Горбунова: Вообще я часто слышу про неприятие каких-то вещей, которые ассоциируются с романтическим наследием, в современном литературном процессе. Мне кажется, сейчас преобладает такая позиция, что поэт — это исследователь, профессионал, который работает со словами и смыслами. И мне такая позиция чужда. Для меня в поэзии есть действительно что-то дикое, что-то странное, что-то, выходящее за пределы просто работы умного человека со словами и смыслами. Мне нужно, чтобы в этом была какая-то стихия. Прорывы неописуемого. Я не уверена, что это стоит возводить к романтизму как все-таки достаточно позднему нововременному явлению. Может быть, я хочу слышать в поэзии голос человечества титанов, а не интеллектуальные поиски новоевропейского человека. Это что-то гораздо более древнее, дикое и первобытное, но при этом оно смыкается и с тем, что сейчас интересует некоторых философов и поэтов.
Разумов: Мне кажется, что это проблема отсутствия языка, по-настоящему — какого-то метаязыка для описания того, что происходит с поэтом, когда он работает, когда он…
Горбунова: Да, я согласна. Отсутствует этот метаязык. Вообще меня очень интересует тема феноменологии творческого акта. Что происходит в момент собственно поэзиса. Сейчас многие говорят, что никакого вдохновения нет, что это все рационально работает. У меня абсолютно не так. У меня это работает интуитивно, на огромной скорости, с очень сильным внутренним импульсом и каким-то моментальным раскрытием мира. То есть вдохновение для меня — преображающее событие и важнейший источник познания, которое при этом является абсолютно естественной способностью человека.
Разумов: Ну вот, к сожалению, такие слова традиционные, романтические опять же, как «вдохновение», — они настолько девальвированы, настолько замылены…
Горбунова: Да. Они девальвированы, замылены, ну и имеет значение, кто их говорит и в каком контексте. Но эти слова сейчас произносят нечасто. Неоднократно я читала, как молодых поэтов спрашивают: как вы мыслите поэзию? И — видимо, это уже правило хорошего тона — они неизменно отвечают: конечно, мы не романтические гении, конечно, этого всего не существует. Мы просто работаем, складываем слова, проводим своего рода исследование. Работники культуры. Но всегда есть вещи, которые не вписываются в установленную культурную рамку. Я понимаю, молодые поэты хотят быть современными, адекватными профессиональному сообществу, хотят найти свое место в нем, а не быть в глазах профессионального сообщества какими-то фриками. Однако для меня эти слова о поэте-профессионале воспринимаются как такое же общее место, как слова про мятежного романтика, противопоставляющего себя толпе, и в современном контексте — как нечто очень конвенциональное. И все это как-то мимо.
Разумов: Мимо, да. Но мы опять уперлись в проблему отсутствия языка, потому что традиционная филология, ну, русская филология, которая началась с формальной школы, немного раньше… Она, к сожалению… Это было триста лет назад, и это все надо пересматривать и создавать новые концепции. А тебе близки какие-то поэты старых времен? Донововременные какие-нибудь. Скальды там, не знаю, Шекспир?
Горбунова: Да, я это все очень люблю. Шекспир уже XVI–XVII век, Возрождение, но я это все очень люблю. А вот как раз одного из самых известных романтиков — Байрона — я терпеть не могу.
Разумов: Байрон — это вот чисто российское явление, знаешь, в Англии Байрон никому на фиг не нужен. Там Блейк, наверное, один из самых главных поэтов, ну и Шекспир.
Горбунова: Блейк вообще один из моих самых любимых поэтов. И я люблю читать всякие древние эпосы, этническую шаманскую поэзию…
Разумов: Фольклор?
Горбунова: Да, что-то такое. Но куда-то мы от обсуждения книги уже ушли далеко. О чем мы говорили? О понимании, о том, что люди солидаризируются с книгой?
Разумов: Да, вообще сейчас очень много людей, особенно в литературе, в поэзии, в каких-то передовых политических движениях… людей травмированных, и очень глубоко травмированных. Это видно просто по Фейсбуку.
Горбунова: Но, Петя, видишь, я все-таки думаю, что в моей книге нет того, что сейчас называют проговариванием травм. Я вообще очень не люблю слово «проговаривание», его часто употребляют. Я не вижу вообще никакого смысла что-то проговаривать. Выражать что-то — да. Но вот проговаривать — нет. В моей книге, конечно, есть опыт, который травматичен — и даже крайне травматичен. Вообще травматический опыт — это широкое понятие. Мышка пробежала, хвостиком махнула — у человека уже травма. То есть не требуется экстремального опыта, чтобы была травма. Конечно, в этой книге есть очень тяжелый, болезненный, меняющий, преображающий, экстремальный опыт. Но я не считаю это проговариванием травмы как раз потому, что для меня истории, рассказанные в этой книге, — это встреча с жизнью, встреча с реальностью. В какой-то ипостаси это захватывающее приключение. Это не про то, как я страдала и хочу рассказать о своих страданиях. Это про то, как я встретила жизнь и познавала ее. И то «я», которое стоит за этими историями, — это «я», которое не пытается как-то сберечь свои личные границы, а, как отметил в своей замечательной рецензии Юрий Сапрыкин, способно расширять себя на огромные пространства. Мне кажется, там есть бесстрашие и готовность к встрече с очень радикальным, меняющим опытом. И это не похоже на то, как обычно говорят о травме, которую пытаются проработать, как-то от нее излечиться. Такого совсем нет.
Разумов: Да-да, и получается, что ответ на вопрос: «Где границы допустимого?» — их нет.
Горбунова: Мне вообще нравится идея, когда границ нет.
Разумов: Ну, границы — это сейчас модный термин, он, конечно, весьма сомнительный. Да, я согласен. Кто-то считает, что его границы здесь, а другой — что они вот здесь. И как бы… Причем взаимоналожением мы выясняем, что они повсюду и, значит, нигде.
Горбунова: Получается какой-то космический масштаб. Ты расширяешь свои границы или выходишь за их пределы, туда, где ты уже не знаешь, где ты, а где звезды…
Разумов: То, что ты описываешь, похоже на мистический опыт, да? Выход куда-то, в какой-то космос условный. Туда, где кончаются земные смыслы.
Горбунова: Да.
Разумов: Я сейчас вспоминаю свой некоторый опыт.
Горбунова: Да, наверное, мне интересен выход к чему-то такому, который может происходить через самые простые бытовые истории. Не обязательно через какой-то трип, вещества или религиозный экстаз: что-то бесконечное может в самых разных, простых вещах открываться.
Разумов: Но сам термин «опыт» для тебя рабочий? Потому что я тут недавно был на одном заседании ребят из ЕУ, и Йоэль Регев, левый интеллектуал, заявил, что «личный опыт» — это последнее пристанище буржуазного мышления, что-то такое…
Горбунова: Термин «опыт» для меня рабочий, но без приставки «личный», я бы сказала. Потому что буржуазно — это когда ты хочешь себе какой-то участочек частного опыта, на котором ты поставил забор от всего, что происходит вокруг. Я как раз против каких-то границ, заборов. Опыт, как я его понимаю, — это совсем не то же самое, что какие-то личные переживания. Вообще опыт — не переживания, тем более не личные переживания. Опыт — это не что-то, огороженное забором, это, наоборот, выход из себя наружу.
В поэзии опыт — это не опыт чего-то содержательно определенного, у него нет конкретного объекта. Его можно назвать опытом бытия или небытия или экстремумом присутствия. Есть книга Лаку-Лабарта «Поэзия как опыт». Мне она очень понравилась, вот он там пишет:
«Ничто не проживается в этом опыте, как в любом другом, ибо каждый опыт есть опыт небытия» или «…вся поэзия — не что иное, как желание, намерение высказать. Но высказать ничто, небытие, то, благодаря чему и в противовес чему существует настоящее, наличное». То есть в этом смысле, когда идет речь о поэзии и опыте, опыт — это не переживание, не душевное состояние, которое передает поэт, не самовыражение. Там же Лаку-Лабарт упоминает об этимологических корнях слова «опыт» в латинском: ex-periri — «прохождение через опасность». Он пишет: «Я говорю “опыт”, потому что стихи “проистекают” из памяти об ослепляющем потрясении или из самого этого потрясения, “головокружения”, забытья. Из того, чего не было, что не случилось, не произошло, когда происходило то самое конкретное событие, с которым они соотносятся, но которого до нас не доносят». Вот, собственно, в таком смысле я понимаю опыт.
Разумов: Как классно, да, классно…
Горбунова: Я не знаю, это понятная мысль?
Разумов: Да, это понятно. То есть это некая змея, которую ты никогда не можешь поймать, но ты ее ловишь на каком-то другом уровне.
Горбунова: Да.
Разумов: Та, которую сложно определить, потому что никакой формы, да, словесной формы в том числе, она не схватывает.
Горбунова: Да.
Разумов: Но при этом схватывается. Вот именно в силу художественности самого проекта.
Горбунова: Да-да-да.
Разумов: Да. Я абсолютно согласен. И — возвращаясь к нашему разговору об отсутствии метаязыка — поэтому он и невозможен. Потому что это должен быть не язык. Вот. А что-то совершенно другое. Поэтому, в принципе, какая-то критика, филология — это очень условные, скажем так, гуманитарные практики, они стоят, собственно, на песке. Их пафос заключается в том, что мы можем все посчитать, определить и выстроить иерархию, там, допустим: Пушкин — первый, Есенин — последний, условно говоря. Или синтезировать даже. Эти «формальные школы» — когда начиналось, это же была часть большого проекта по обустройству на Земле. Как часть, может быть, социалистического проекта, в какой-то момент они точно встроились в это дело. То есть некая «формальная школа» должна была обеспечить технологиями молодых рапповцев, не знаю, студентов Литинститута, образованного Горьким, и так далее. Вот эти все проекты — они ввиду самой оксюморонистичности задачи не воплотились. Дело даже не в том, что они утопичны, потому что некоторые компоненты утопии все-таки могут реализовываться так или иначе… И поэтому так тяжело говорить о литературе, даже о конкретной книге, потому что передать вот эту энергию, которую ты получаешь, другому человеку… опять же в силу того, что понимание очень проблематично, как его передать? Я вот только разговаривал в ФБ с девушкой, которая написала нечто негативное о стихах Гали Рымбу. Написала, что слабо. Я пишу: «В чем сила, брат?» — она пишет: «Мастерство, новаторство, чутье», еще что-то. И я пишу, что это общие слова, которые ничего не обозначают, потому что любые формальные признаки красивости можно имитировать. И можно внушить критику, филологу, что это там есть. Он это там найдет. И вот через этот договор, совершенно порочный, и существует большая часть литературы, то, что Верлен назвал «все прочее — литература».
Горбунова: Меня вообще всегда очень пугало, когда какие-то люди, особенно имеющие какой-то там филологический, лингвистический инструментарий, ведут себя так и искренне думают, что они могут доказать, где настоящая поэзия, где ненастоящая, где хорошая, где плохая, — путем анализа языка или чего-то такого. Мне кажется, что вообще в этом есть что-то преступное — когда человек думает, что он на это способен, имея какой-то инструментарий. Какая-то нечестность и непонимание того, что все это такое на самом деле… Но, конечно, тут ничего никому не докажешь. И, наверное, не нужно доказывать.
Разумов: Вот тут интересный момент, да: нужно или не нужно?
Горбунова: Всю жизнь потратишь, если начнешь доказывать, уже никогда не остановишься.
Разумов: Это правда, да, это не наше дело, по сути.
Горбунова: Вот если человек прочитал какую-то книгу, понял ее, почувствовал и написал, например, на нее отзыв, рецензию — это может помочь кому-то другому, кто прочитает эту книгу, тоже что-то понять, почувствовать. Делиться своим пониманием мы можем, а спорить, наверное, смысла нет. Для меня поэзия — это вообще в огромной степени не вопрос языка. И язык у поэзии может быть очень разный. Он может быть и такой, что в нем вроде ничего особенного и нет, достаточно бедный, стертый, но это может быть великая поэзия при этом. И какие-то приемы, какое-то очевидное на уровне техники новаторство — для меня это совершенно не имеет отношения к сути дела. Я, честно говоря, никогда не интересовалась филологией. Я философию изучала. Философия — вот это мне было интересно. И как философы говорят о литературе, мне очень часто бывает интересно. Но когда выдающиеся филологи говорят о литературе — это тоже бывает интересно. Вот когда-то я присутствовала при том, как покойный [Борис] Аверин давал интервью. И он говорил довольно много о Набокове, которого я на тот момент даже не читала и которым не особо интересовалась, но, просто слушая его речь, я переживала какое-то откровение. Это было что-то действительно очень впечатляющее. Он как-то просто, стихийно рассказывал о жизни, о своем опыте чтения литературы, приводил какие-то истории, через которые для него раскрывались те или иные произведения, и это было что-то действительно потрясающее.
Разумов: То есть такой своеобразный дневник чтения.
Горбунова: Он соотносил опыт литературы с жизнью в широком смысле, со своей жизнью, со всем, что есть на свете. В том, как он говорил, было какое-то взаимоперетекание того, что было написано в этих произведениях, и того, что происходило в каких-то сокровенных глубинах его жизни. И становилось понятно, что этой границы, в общем, и нет, все переходит друг в друга. Видишь, мы, с одной стороны, ничего никому доказать не можем, а с другой стороны, есть опасность психологизировать это все, сказать, что все субъективно, как сейчас часто говорят. Сейчас же все время говорят, что никакого объективного критерия нет, что одному — то, другому — се… И я думаю, что это неправда, потому что это не совсем так. У смысла есть какая-то универсальность, можно сказать, интерсубъективная универсальность. Сейчас не принято так думать, обычно на все смотрят с субъективистской точки зрения, с точки зрения скептицизма... А я просто знаю, что в поэтическом мышлении есть какие-то действительно общезначимые вещи, которые нельзя субъективировать. Ну как вот у математиков: у них же есть в математике некая универсальность. И в поэзии она тоже есть. Но она совершенно по-другому создается, чем в математике. Через какие-то совершенно другие вещи. Но при этом сказать, что это полностью произвол, — нет, ни в коем случае. Общезначимость и универсальность поэзии иная, чем универсальность идеальных объектов математики, но благодаря этой универсальности смысла поэзия гораздо ближе к математике, чем, например, к журналистике. Я думаю, что мышление философа, поэта и математика восходит, пусть и по-разному, к универсальности смысла.
Разумов: Я вспоминал тут фразу Мандельштама «Поэзия — это чувство собственной правоты». Мне кажется, что вот чувство собственной правоты — это совсем особое чувство. Тут дело не в субъективности, а в том, что ты просто что-то увидел, я не знаю, гриб или там Христа.
Горбунова: Да. Ты просто видишь.
Разумов: Ты его просто видишь и записываешь — и больше ничего не делаешь.
Горбунова: Ну да, я просто хочу сказать, что то, что ты видишь, — это не твоя индивидуальная галлюцинация. То, что ты видишь, — это правда.
Разумов: Но ты же ее видишь.
Горбунова: Да, но можно видеть и сугубо собственные порождения. А тут ты видишь что-то, выходящее за рамки твоего индивидуального опыта. Ты видишь вещи, статус которых имеет какую-то общезначимость.
Разумов: Да. Но, безусловно, можно к этой фразе прицепиться и сказать, что последний графоман убежден в собственной правоте точно так же, как и большой поэт. Ну, тут опять мы бессильны совершенно. Либо ты видишь, что человек видит, либо ты не видишь вообще ничего там…
Горбунова: Мне иногда кажется, что графоман и большой поэт — они как раз да, чувствуют свою правоту, а вот какой-то не очень большой поэт, но и не графоман, а такой как бы «средний профессионал», который в большей степени понимает поэзию как какую-то культурную работу со смыслами и языком и ориентируется на существующие конвенции, существующие культурные рамки, — у него меньше чувства этой внутренней правоты. У графомана и большого поэта может быть даже больше точек пересечения.
Разумов: Может быть, это можно назвать какой-то наглостью. То есть это какое-то более низкое чувство, чувство какой-то политической правоты, да. Я такой же, как он, тоже хочу себе памятник. Это интересно. Мы тут пришли к вопросу веры, получается. То есть как Иисус говорил: просто верь в меня — и все.
Я хотел, наверное, еще один вопрос задать, который не относится к этой ветке. Мне очень интересно, как ты понимаешь природу, ну вот лес, например. Что такое лес? Можно что-то о нем сказать внятное?
Горбунова: Лес — это что-то, с чем у меня происходит живое взаимодействие. Когда я вхожу в лес, я его чувствую. Я его чувствую как какое-то сложное пространство, какой-то сложный организм. Я в нем более органично себя ощущаю, чем в городском ландшафте, чем в городе. Это какой-то очень сложный живой организм, в котором есть место для меня, в котором я могу быть. И который как раз ставит меня в каком-то смысле перед лицом нечеловеческой реальности: вот камни, вот их фактура, камень просто такой, какой он есть, или дерево… Какая-то завораживающая материальность этого всего. Лес — он дикий, странный, он сам по себе, какое-то непонятное, нечеловеческое присутствие. Нет задачи его обжить, переделать под себя, как-то рационализировать. Вот он такой, странный, дикий, и ты приходишь в него и тоже понимаешь, что ты тоже какой-то странный, дикий. Ты тоже познаешь что-то о себе, понимаешь, кто ты такой вообще, кто ты есть в своей дикой, скрытой от мира ипостаси. Я очень люблю лес, я его не боюсь. При том что какое-то присутствие ужаса рядом я могу ощущать в лесу. Но это тот ужас, которым человек боится сам себя. Человек для своего тела в некотором смысле чужой, захватчик, эго, личность, которая как бы насилует зверски это тело. Эго, само являясь иллюзорным образованием, фантомным, захватывает тело, и человек страшится себя понять вот в этой чуждости, телесности. Потому что сразу возникает реальность, сразу возникает смерть… Мы, конечно, психические существа, но вот от существования в смыслах ты как будто просыпаешься на какой-то момент и вдруг испытываешь чувство реальности, чувство, что это все просто есть. Ты есть как тело, есть камни, есть деревья, есть физическая боль, есть смерть. Мы часто живем как бы в каком-то внутреннем царстве, где мы занимаемся какой-то смысловой деятельностью. Вдруг ты выпадаешь из этого внутреннего царства во внешнее, и это внешнее действительно может быть сопряжено с каким-то ужасом, и лес способствует этому переживанию. Как будто внутренние двери раскрываются, и ты из своего привычного сознания выпадаешь в эту странную, дикую, неописуемую реальную жизнь.
Разумов: Получается, психика более спокойная, комфортная среда, даже, может быть, благостная, а тело — наоборот — травматично…
Горбунова: Нет, я так не думаю, что психика — благостная среда. Она не благостная, она же может быть и очень беспокойная, калечащая.
Разумов: Но получается, что психика охраняет что-то там, как в такой иллюзии безопасности, может быть, нет?
Горбунова: Есть разные виды ужаса. У психики свой ужас. Психика боится посмотреть в зеркало. Психике трудно понимать свою природу. Мне иногда бывает жалко тело. Иногда кажется, что оно страдает, как в фильмах про одержимых детей, которые бьются в припадках, — всякие там «Изгоняющие дьявола», все такое. Куча таких фильмов, в которых такой сюжет: чужой захватил мое бедное тело и черт-те что творит.
Разумов: Нет, теория чужого в теле понятна, да, но для меня неожиданно, что природа оказывается таким некомфортным местом. И даже некомфортным — это слабо, потому что получается, что она такая прямо разрушительная, хотя, с другой стороны, если психика — чужой, то…
Горбунова: Она не разрушительная, просто когда мы находимся в состоянии смыслового отношения ко всему, то выпадение из этого состояния может быть пугающим. Я не думаю, что природа разрушительная, она просто такая, какая она есть. Мне в ней проще, чем в социальном мире. Для меня социальный мир разрушителен. Социальный мир для меня — это вообще не знаю что, это ад, странные игры, правила, ложь, какие-то калечащие штуки. А природа — она просто вот такая, какая она есть. Ну да, в ней есть что-то нечеловеческое, но в нас самих есть что-то нечеловеческое. Вот этому нечеловеческому в нас хорошо в природе, а человеческому в нас может быть некомфортно.
Разумов: Понятно.
Горбунова: Человеческое в нас часто хочет увидеть природу как свое зеркало, зеркало каких-то своих настроений, аффектов, своей психической жизни. Хочет ее под себя подделать.
Разумов: Одомашнить.
Горбунова: Одомашнить, да. Я думаю, это неправильно, с ней надо взаимодействовать с такой, какая она есть. Мне в принципе интересно нечеловеческое измерение вокруг и в самих людях. Может быть, это нечеловеческое в людях в каком-то смысле самым человеческим и является. У меня в книге «Пока догорает азбука» есть короткое стихотворение про любовь, называется «Крик»:
не-человеческое
любим мы в человеке
даймон скрытый внутри
желает другого даймона
его любовь —
крик сквозь все людское
Внутри живет даймон, который кричит и хочет, чтобы его услышал какой-то другой даймон.
Разумов: Даймон — это демон, да?
Горбунова: Ну, не обязательно демон в христианском смысле. В древнегреческом, скорее. У Сократа был свой даймон.
Разумов: Ну, тут я уже не специалист. Да, интересно. Я вспомнил вот по поводу этого сюжета: кто-то в ФБ пересказывал сюжет рассказа Брэдбери, как чудище, которому миллион лет, живет в самой-самой глубине моря и вдруг слышит крик такого же чудища. И оно долго-долго поднимается на поверхность, испытывая всякие трудности. И, когда оно выползает на берег, оно видит, что это просто сигнал какого-то маяка, искусственный. И оно все это уничтожает, крушит.
Горбунова: Да, это здорово, это классный сюжет. Знаешь, это ведь тоже про понимание, например, как происходит понимание книги. Книга, написанная мной, — для меня это и есть крик чудища на дне моря. Это чудище на дне моря кричит, а кто-то другой читает эту книгу, и морское чудище в нем закричит в ответ, и эти два крика чудищ могут встретиться, они могут услышать друг друга. Но, конечно, всегда может оказаться, что крик другого чудища — это маяк.
Разумов: Ну вот это — прекрасная метафора, и, я думаю, тут мы закончим. То есть проблема понимания все-таки одна из ключевых в том деле, которым мы заняты. Несмотря на то что мы сильно сомневаемся, что оно возможно, мы, как это чудище… все-таки «надежда умирает последней». Можно потерять любовь, потерять веру, но природа человека такова, что надеяться он все равно до самого последнего вздоха на что-то будет. Мне так кажется. Да?
Горбунова: Наверное, да. Я читала какой-то апокриф, где Адама с Евой изгнали из рая, черт им сказал, что все плохо, а кто-то там сказал черту: «Никогда нельзя отнимать у человека надежду». Да, надежду никогда отнимать нельзя.