Владимир Друк: «У нашего поколения не было первых книг»
17 мая 2018 ● Colta.ru
«Поэзия» и поэты эпохи перестройки.
Владимир Друк, одна из заметных фигур неофициальной московской поэзии поздних семидесятых, в восьмидесятые стоял у истоков клуба «Поэзия». В этом году исполняется тридцать лет с момента, как клуб юридически перестал существовать.
Владимир Друк, одна из заметных фигур неофициальной московской поэзии поздних семидесятых, в восьмидесятые стоял у истоков клуба «Поэзия». В этом году исполняется тридцать лет с момента, как клуб юридически перестал существовать.
© Светлана Богданова
О московской неофициальной словесности времен начала перестройки, об изобретении измерителя счастья и о новой — еще не вышедшей — книге «каббалистических» стихов живущий в США поэт и изобретатель Владимир Друк рассказал Евгению Когану.
— В этом году исполняется 30 лет с момента, как созданный при вашем активном участии клуб «Поэзия» юридически перестал существовать. А создан он был в середине восьмидесятых — уже после создания других известных клубов, музыкальных или литературных…
— В самом начале восьмидесятых, насколько я помню, в Москве еще не было никаких литературных «клубов». Литераторы собирались по разным литобъединениям. Самыми сильными из них, похоже, были студия «Луч» при МГУ и несколько поэтических и прозаических семинаров при журнале «Юность». Было несколько «неформальных» групп, но никто, по-моему, не называл себя «клубом» — поэты «лианозовской школы» Холин, Некрасов, Сапгир и другие, группа вокруг поэта и теоретика Монастырского, поэты «Московского времени», журнал «Эпсилон-салон» — братья Александр и Михаил Бараш и Николай Байтов, художники при Комитете графики и концептуалисты, которые собирались в мастерской Ильи Кабакова, и другие. Были поэты и культурологи в семинаре Михаила Эпштейна. Многие метафористы тесно общались с Константином Кедровым… Впрочем, о существовании этих групп я, к сожалению, узнал значительно позже. Я, конечно, слышал о легендарном «Клубе 81» в Питере, но никогда не случилось там побывать. Московский же клуб поэтов создавался через пять лет, во времена Горбачева, в 1986-м, как «неформальное творческое молодежное объединение», которые только что разрешили: это была инициатива «снизу», поэтому мы обошлись без руководителей и покровителей из «конторы». Хотя наверняка кто-то к нам был приставлен.
К этому времени Московское отделение Союза писателей спонсировало несколько семинаров для «молодых», которые вели разные маститые писатели. Порой такие семинары вели очень достойные люди — Анатолий Жигулин, Юрий Левитанский, Яков Аким и другие. Были еще Московские совещания молодых писателей, куда было непросто попасть, — потенциально они могли рекомендовать твои стихи в журнал, а книгу в издательство. Были «квартирники» — неофициальные чтения у кого-нибудь дома. Туда приглашали, понятное дело, только «своих». И еще много различных лито при разных домах культуры — в основном места скучные, созданные, я думаю, для наблюдения и контроля за молодыми дарованиями. Хотя многие там знакомились, ходили компаниями то на один семинар, то на другой, читали друг друга, общались, обсуждали, спорили. Было много замечательных встреч и разговоров, но в целом — тоска, было душно, была некая безысходность, которая уже становилась привычной, превращалась в способ существования: они, официальные, — «там», а мы — «здесь» навсегда. Надежды на перемены, связанные со смертью Брежнева, быстро развеялись, а темное междуцарствие Черненко и Андропова только усилило настроения глухого сопротивления и выживания.
Стихи и книги тех, кто не принадлежал к официозу, не печатали под разными предлогами — например, потому что их авторы не были членами Союза писателей (при этом вступить в союз можно было, лишь выпустив одну-две книги) или стихи были слишком непохожими на то, что проходило цензуру, политическую и эстетическую. Не печатали, не давали выступать, пытались склонить к компромиссам, заставить играть в их игру: напиши «паровоз», говорили редакторы, то есть проходной, идеологически передовой и эстетически выдержанный стишок, и тогда, может быть, мы через год поставим твою подборку.
— В чем был основной смысл вашего клуба?
— Смысл у Московского клуба поэтов, или клуба «Поэзия», как его заставили называться официально, был объявлен один, но каждый трактовал этот смысл по-своему и связывал с клубом свои ожидания.
На рубеже семидесятых-восьмидесятых вдруг стало очевидно, что появилось довольно много интересных поэтов, которые никак не вмещались в рамки официальной литературы. Их отказывались признавать, в любой момент могли начать преследовать за тунеядство (история с Бродским периодически повторялась втихую), за редчайшими исключениями им был закрыт путь в официальные журналы и издательства. То есть появилось то, что потом стали называть «неофициальной литературой». Конечно, замечательные писатели, не входящие в официоз, были и раньше, но тут, видимо, произошел некий количественно-качественный скачок. Мы оглянулись на самих себя и поняли, что нас, непохожих, довольно много. Стало очевидно, что если в одиночку пробиться, не потеряв себя, было неимоверно трудно, почти невозможно, то, возможно, получится сделать это вместе. Предполагалось, что, если заявить себя группой, власти не смогут просто отмахнуться. Поэтому основным планом клуба было заявить о себе, о своем существовании и творчестве, добиться возможности хозрасчетного, кооперативного издательства (модные слова, тогда только входившие в оборот), обойтись без цензуры, организовывать выступления (в том числе платные), продавать свои книжки и так далее. Напомню, только-только началась перестройка, в печати появились первые прежде запрещенные имена, разрешили кооперативы, запахло свободой. На этой волне и был создан клуб. То есть внешне была, можно сказать, чисто социально-экономическая задача. А уж некоторое разделение по эстетическим пристрастиям и просто общение получились сами собой — естественно, в устав они не входили.
— Каким было ваше личное участие в создании клуба?
— Так получилось, что после долгих попыток найти хоть какую-то литературную или журналистскую работу (меня везде отфутболивали или по анкетным данным, или за некоторые конфликты с «конторой») в середине восьмидесятых я устроился работать по договору, внештатником, в относительно известный и относительно прогрессивный журнал «Клуб и художественная самодеятельность». Это был журнал Минкульта и профсоюзов. Нравы там были помягче, собралась в целом очень интересная редакция, иногда пробивались не совсем «правильные», с точки зрения властей, материалы о «неформальных» объединениях при домах культуры, выпускалась — вкладышем — пластиночка с песнями бардов, джазом и так далее. Кое-как, с выговорами и разносами, но это сходило с рук. Однажды нам прислали некий «проект» Минкульта, еще официально нигде не опубликованный, в котором говорилось, что власти собираются разрешить создание неформальных молодежных объединений, как тогда говорили. «Молодняку» — так официоз маркировал неофициальных музыкантов, художников, литераторов, многим из которых было далеко за тридцать, да и за сорок, — ветшающая власть вдруг решила разрешить объединяться, собираться, проводить выступления, даже что-то издавать. Видимо, «наверху» почуяли, что они уже не в силах просто запрещать новые имена, запрещать полуподпольные рок-концерты, новые выставки «говяных», по словам Хрущева, «абстракционистов» и авторов, которые набирали популярность. В конце концов, с момента «Бульдозерной выставки» прошло к тому времени уже больше десяти лет, были выставки в Измайлове, на ВДНХ, которые увидели тысячи людей, правдой и неправдой организованные в библиотеках или НИИ выступления поэтов тоже стали вызывать интерес.

Владимир Друк и Нина Искренко, 1990 г.
© Игорь Голдберг
Итак, в редакцию пришел такой «проект», и я подумал, что этой бумагой не худо бы воспользоваться. Скопировал «проект» и в тот же вечер пришел к своему близкому другу и коллеге Виктору Коркии, благо мы жили в нескольких кварталах друг от друга. Посидели, покурили, помечтали. Случайно кто-то позвонил. И вдруг выяснилось, что один из приятелей приятеля, литератор Леонид Жуков, уже некоторое время пытается создать нечто подобное. Мы связались с Жуковым. Он взялся написать и зарегистрировать устав, потому что из нас в то время никто понятия не имел, как это сделать. Потом мы стали обзванивать всех хороших поэтов, кого знали, рассказывали идею, предлагали собраться. Встретились несколько раз узкой инициативной группой, все обсудили. Провели первое общее «учредительное собрание» в цветущем майском парке на берегу Москвы-реки, и Леонид понес устав по инстанциям. Таким образом, с момента создания я оказался в центре событий, вошел в выбранное правление клуба вместе с Приговым, Искренко, Бунимовичем, Жуковым, Коркией, Арабовым. Игоря Иртеньева выбрали председателем, поскольку он как иронист был равно ироничен ко всем «-измам». Правление принимало в клуб новых литераторов, организовывало чтения, пыталось пробить свой журнал и издательство, отбивалось от придирок властей.
Вопросами устава и дрязгами с отделом культуры занимались в основном Иртеньев и Жуков. И еще Кирилл Ковальджи, член редколлегии «Юности», который, кажется, совершенно добровольно бросался нас то и дело защищать. Впрочем, времена, конечно, уже были вегетарианские. Но случались всякие курьезы. Например, на большом открытии клуба в «Дукате» (был такой ДК в центре Москвы) в октябре 1986 года, когда собралось очень много зрителей — все места и проходы были забиты, и несколько сотен человек не поместилось, — так вот, в конце вечера, когда художники показывали перформанс, лопнула осветительная лампа, то есть была «грубо нарушена пожарная безопасность», и это стало предлогом, чтобы нас вызвали в районный отдел культуры. На самом же деле нас обвиняли в чтении на вечере всякой «антисоветчины»: читалось там разное, но особенно их возмутило, помню, стихотворение Пригова:
Петр Первый как злодей
Своего сыночечка
Посреди России всей
Мучил что есть мочи сам
Тот терпел, терпел, терпел
И в краю березовом
Через двести страшных лет
Павликом Морозовым
Отмстил
Были и внутренние казусы. Случайно, например, узнал, что про Коркию и меня ходили слухи, будто мы — агенты ГБ, которые собирают рукописи — образцы пишущих машинок и передают их в «контору». Помню, мы долго смеялись, хотя это было не смешно, а противно.
— Можно ли считать клуб «Поэзия» андеграундным, неформальным, нонконформистским? Или это было все же полуофициальное (или даже официальное) объединение?
— По бумагам, как я уже сказал, мы были зарегистрированы при каком-то районном отделе культуры. Нас формально опекала милая дама, и было видно, что ей все это довольно трудно и неловко. Тексты, которые мы могли читать публично, должны были быть «залитованы» — знает ли нынешний читатель, что это значит? У меня где-то в архиве лежит копия подборок стихов с синими печатями «разрешено к исполнению» или что-то в этом роде. Этим разрешениям, понятно, никто не следовал, читали что хотели. Но по сути, конечно, клуб был неформальным, и его участники все были в различной степени и с различных сторон оппозиционно настроены к режиму: кто политически, кто этически, кто эстетически. А кто-то просто официоз «в упор не видел» и жил сам по себе. То есть «оппозиционность» была разноцветная, и совсем не она была принципом объединения. Для виду мы заявляли: ах, у вас перестройка, свобода слова, так дайте нам печататься, дайте нам издавать журнал, выпускать книги! Кооперативы-то вы, мол, разрешили! То есть мы твердили им то, что они начали писать в передовицах своих газет. «Великая советская литература» тогда нас в упор не видела, не признавала, практически никто не мог печататься в советских изданиях. Но, кажется, почти все, кто тогда входил в клуб, стали сегодня известными литераторами. А некоторые, как говорят, и классиками при жизни.
— По какому принципу принимали (или не принимали) людей в клуб?
— По очень простому: тех, кто, как писал Борис Пастернак, способен написать «восемь строк о свойствах страсти». То есть отсеивали только отчаянных графоманов. Чтобы вступить в клуб, надо было заручиться согласием большинства членов правления, было право вето. Сначала в клубе были и барды, и художники, и музыканты, но постепенно они стали создавать свои объединения по тому же лекалу. Всего, насколько я помню, через пару лет после открытия в клубе насчитывалось около ста литераторов.

Фестиваль «Неопознанное движение». Волгоград, 1990 г. Слева направо: Михаил Смотров, Нина Искренко, Иван Верховых, Владимир Друк, Виктор Коваль
— До того как появился клуб, вы не печатались? Когда вы решили показать свои стихи публично? И почему не вступали ни в какие объединения?
— Я никогда не был в тусовках, «группах» и вообще по разным причинам, к сожалению или к счастью, был далек от литературной среды. Было несколько близких друзей, была театральная студия, которой руководил замечательный педагог Семен Ривкин, где прошли «мои университеты». Первая публикация случилась на Западе, в журнале «Стрелец», и говорили, что была еще какая-то где-то, но я даже не видел. Более или менее общение началось, когда мои тексты случайно увидел замечательный писатель и человек Андрей Кучаев (может, кто-то помнит его знаменитый рассказ «Мозговая косточка», напечатанный в семидесятые в «Литературке»). Он позвал меня на совещание молодых писателей, сразу на три семинара — поэзии, детской литературы и «сатиры и юмора». Там я и познакомился с Еременко, Парщиковым, Александром Кабаковым, Иртеньевым, Мариной Бородицкой, Мариной Москвиной и другими. Потом была мастерская Левитанского, а затем — студия Ковальджи, где я встретился с великолепной Ниной Искренко (ее потом назвали душой клуба), Бунимовичем, Арабовым, Коркией, Тучковым, Строчковым, Юлией Немировской, Татьяной Нешумовой, Володей Эфроимсоном…
В вечерах же клуба принимали участие поэты «Московского времени», «лианозовцы» — Всеволод Некрасов, Генрих Сапгир, минималисты Иван Ахметьев и Макаров-Кротков, поэты круга журнала «Эпсилон-салон» Александр Бараш и Николай Байтов, метафористы Кутик, Шатуновский, Жданов, Кедров, концептуалисты Кибиров, Рубинштейн, Сухотин, поэты из Киева, Свердловска, Нижнего, Питера, Одессы, Харькова, Ростова, других городов… Так постепенно и образовывался дружеский круг общения.
Я всегда сторонился групп, «-измов», этикеток. Общение и тогда, и сейчас предпочитаю строго индивидуальное, и часто не по общности, а по отличию. Что общего было в стихах у меня и, скажем, у метаметафористов? Ничего. Однако это не мешало нам интенсивно общаться, спорить, быть откровенными и честными в оценках. С тех пор, спасибо судьбе, кроме тех, кого уже упомянул, дружим с Виктором Санчуком, Игорем Левшиным и Игорем Сидом, с Юлием Гуголевым, Александром Левиным, Ефимом Бершиным, Владимиром Салимоном, Игорем Бяльским, Диной Рубиной, Ольгой Ильницкой, Сергеем Седовым… Тут можно привести почти весь список клуба. За все эти годы как-то никто особо не рассорился. Отношения сложились и остались у всех близкие или, по крайней мере, глубоко профессионально-уважительные. В общем, при всей разнице подходов мы, кажется, получали и получаем истинную радость от общения друг с другом — наверное, именно от нашей разности, непохожести.

Владимир Друк в ДК Дукат, 1986 г.
— Клуб «Поэзия» помог вам лично? Как?
— Основной прорыв для всех произошел после вечера в «Дукате», когда нас уже нельзя было продолжать замалчивать. О вечере заговорила вся Москва. Потом были еще несколько громких вечеров в столице, поездки в Одессу, Нижний, Смоленск, Питер. В начале 1988-го в «Юности», в рубрике со смешным названием «Испытательный стенд», появилась взрывная публикация: двенадцать поэтов с фотками и предисловием Ковальджи. Спустя несколько месяцев — публикация следующей поэтической «команды». Тираж у «Юности» тогда был многомиллионный, и мы, как говорят, проснулись знаменитыми.
— Википедия пишет, что вы не только поэт, но еще и специалист по информационной архитектуре. Что это такое?
— Информационная архитектура — сравнительно новая область знаний и практик, связанных с оптимизацией потоков информации. Простой пример — веб-сайт: как он должен быть организован, чтобы пользователи быстро и наиболее эффективно получали нужную информацию? Понятно, тут все несколько сложнее, чем простая рубрикация или структура страниц.
Я окончил в США магистратуру по этой второй своей профессии (моя первая — педагог-психолог) — в отделении интерактивных коммуникаций в Школе кино и телевидения Нью-Йоркского университета. Там пригодились мой опыт в Институте сновидений и виртуальных реальностей (который мы вместе с философом Вадимом Рудневым и другими коллегами создали в девяностые в Москве как первый независимый научный институт) и мой серьезный интерес к появившемуся незадолго до этого интернету. Началось все с веб-сайтов, а потом ситуация сложилась так, что я обнаружил себя работающим в самом логове информационного капитализма — в компании Turner Broadcasting (это она делает CNN, CNNMoney и тому подобные каналы), в офисе, выходящем окнами в Центральный парк…
— Пишут, что вы еще и изобретатель!
— Да, у меня американский патент «Метод и аппарат для измерения субъективного времени». Тут забавная история: в NYU я рассказал на одном семинаре профессору о давней идее, как измерять субъективное ощущение времени и почему это может быть полезно. После семинара он пригласил меня в кафе, и мы просидели там до вечера. Он сказал: ты понимаешь, что придумал? Я пожал плечами: ну вроде да. Он говорит: все бросай, немедленно подавай на патент, станешь миллионером. Я стал писать заявку; это довольно сложный процесс из-за особого языка, на котором они пишутся. Короче, подал заявку и, к своему полному ошеломлению, получил патент. Да еще и в неслыханно короткие сроки — за полтора года, когда обычно на это уходило четыре-пять лет. Но не было прецедентов, как мне объяснили. В общем, патент я получил, а вот стать миллионером не вышло.
Любой патент надо, как оказалось, окучивать и «раскручивать», на это нужны время и немалые деньги. В какой-то момент я перестал платить годовые взносы за его поддержку, и патент перешел в общий доступ. Недавно заглянул в записи Патентного бюро — на мою работу ссылаются и Sony, и AT&T, и еще какая-то японская фирма. Жду, что вот-вот появятся желающие изготовить такие «субъективные часы», которые измеряют, насколько человек увлечен жизнью и счастлив. При нынешних технологиях это сделать совсем нетрудно. А у меня наготове второй патент в том же направлении: я придумал, как человек может сам сознательно ускорять или замедлять свое время. Жду тех, кого это заинтересует, инвесторов, спонсоров, а пока суд да дело, занимаюсь своими литературными проектами.
— Ваши стихи можно условно разделить на три части. Первая — ранние опыты. Вторая — «на злобу дня» (беру в кавычки, потому что более правильно их, наверное, называть актуальной поэзией). Третья — экспериментальные. Какая из этих трех частей вам наиболее близка?
— Ранние опыты действительно были, только их почти никто не видел. Частично они утеряны, частично уничтожены. Я давно заметил, что у нашего поколения, похоже, не было первых книг. Когда мы начинали, не было такой возможности, чтобы ты написал пару десятков стихов и смог их опубликовать первой книжечкой, хоть и маленьким тиражом, как это легко сделать сейчас. Нет, многие годы все писали без надежды на публикацию, что было, конечно, очень нездорово, но тут нет худа без добра: это позволило вещам отстояться, оставалось лучшее.
В мою первую книгу «Коммутатор» вместились где-то четыре книги, хотя я очень старался, чтобы получилась единая книга, цельная. Там есть и более ранние вещи — совсем наивно-лирические, псевдодетские, те, которые можно с некоторым приближением назвать обэриутскими (хотя я об ОБЭРИУ узнал довольно поздно, к своему стыду, уже когда в основном все эти вещи были написаны). Есть там и то, что вы назвали актуальной поэзией, и то, что, вероятно, вы имеете в виду под экспериментальными текстами. Надо заметить, что некая экспериментальная составляющая для меня важна в любой вещи — просто каждый новый текст должен, по-моему, в идеале быть новым по «форме и содержанию». Я знаю прекрасных поэтов, которые много лет остаются верны более-менее одному способу письма. Это их естественная форма высказывания, медитации, канал соединения с Всевышней Поэтической Энергией. Я — другой, у меня все время получаются разный угол зрения, разная форма, разные способы видения и порождения смыслов, разные ритмические структуры, разные системы координат и точек наблюдения. Это уже, видно, мой природный, естественный для меня тип разговора буквами и звуками.
То, что получается в последнее время, — например, не так давно написанный словарь «АЛЕФ-БЕТ» и другие недавние вещи — вообще пока непонятно на что похоже, не укладывается в определение, прежде всего, для меня. Может, критики помогут разобраться. Так что, наверное, вашу классификацию можно подкорректировать.
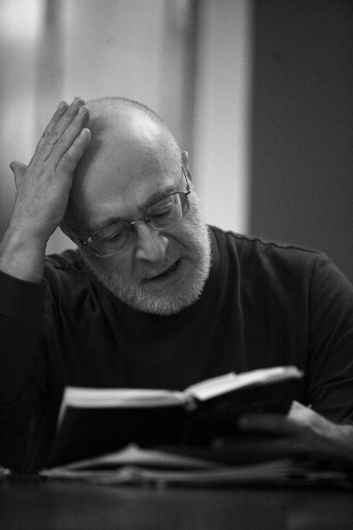
© Светлана Богданова
— На кого вы опираетесь в поэтических экспериментах? Можете ли вы назвать своих учителей, предшественников — тех, кто повлиял на вас сильнее всех?
— Легче вопроса не придумаешь, поскольку учился я у всех поэтов, не шучу: от Александра Сергеевича до Тютчева и Фета, от Маяковского до Блока, от Пастернака до Мандельштама, от Высоцкого и Левитанского до Всеволода Некрасова, Генриха Сапгира и Геннадия Айги. Это если говорить только о русской классической литературе. Мне интересны любая ясная, особым образом построенная поэтическая вселенная, космосы взглядов, смыслов, техники. Упоительно! Я, наверное, как говорили, совершенно «партийно беспринципен и неустойчив», всеяден и люблю любую литературу, но только хорошую. От плохой просто заболеваю физически.
— Скоро, насколько я знаю, у вас должна выйти новая книга — упомянутый вами поэтический цикл «АЛЕФ-БЕТ». Это тексты, написанные на каждую букву ивритского алфавита и содержащие отсылки к каббале. Вы специально изучали каббалу? Может быть, вы — каббалист?
— Нет-нет, я категорически не каббалист. «Настоящий каббалист» — это Мадонна. А если серьезно: жили на свете великие Мастера, да и сегодня есть потрясающие знатоки и мудрецы Учения, они обычно предельно скромны, а многие практически неизвестны, как в старину скрытые цадики — нистарим. Но, к сожалению, как и везде, есть много знатоков в кавычках, которые и амулеты продают, и гадают, и штампуют популярные книженции. «АЛЕФ-БЕТ» — это не популярная и не каббалистическая книга, это попытка — вполне, кстати, традиционная для иудаизма — создать поэтическую версию древнейшего мистического алфавита, передать на русском языке хотя бы некоторые отголоски богатейших традиций его толкования, его загадок, его «форм, чисел и номинаций», его многомерного пространства образов и смыслов. Здесь я, похоже, двигался и в русле отечественной литературной традиции, вдохновленный опытами Велимира Хлебникова, который, как известно, пытался понять скрытый смысл букв кириллицы. И многое, замечу, гениально разгадал и увидел.
— Смогут ли воспринимать этот цикл те, кто незнаком с каббалой?
— Книга эта не для всех. Кого-то она наверняка оставит равнодушным, это нормально. Другим она, надеюсь, будет интересна. Я заметил, например, что некоторые находят в тексте свои «заветные», любимые буквы-главки. А есть те, кто воспринимает весь текст целиком. Конечно, если есть знакомство с иудаистской традицией, будут видны дополнительные слои смыслов, но это совершенно не обязательно.
— А вообще, как вы считаете, каким багажом, «бэкграундом» нужно обладать, чтобы воспринимать поэзию? И нужно ли (или можно) читать стихи «с чистого листа»?
— Поэтическое образование в школах у нас, к сожалению, ужасное. Поэтому человек начинает читать, понимать и чувствовать поэтическое слово, если рядом с ним вовремя оказывается кто-то, кто помогает на первых порах, — родители, старшие братья или сестры, друзья, увлеченные подвижники. Если их нет, то в лучшем случае читатель с трудом понимает первый план — слова, вернее, столбики слов, написанных в рифму. И считает это поэзией. Тут явно досадное недоразумение. Но, вы знаете, у меня были случаи, когда я читал в совершенно «непоэтических» аудиториях — рабочим на заводе, сиротам, заключенным, несколько раз читал американцам и немцам по-русски, без перевода (так получилось), и необъяснимо это были одни из лучших моих выступлений. Кроме поэтического образования, видимо, более важно, чтобы у человека оставался открытым «третий», поэтический, глаз, чтобы слух не был забит всяким искусственным шумом, чтобы сердечко колотилось. В иудаизме, кстати, это называется «раненое сердце».
О московской неофициальной словесности времен начала перестройки, об изобретении измерителя счастья и о новой — еще не вышедшей — книге «каббалистических» стихов живущий в США поэт и изобретатель Владимир Друк рассказал Евгению Когану.
— В этом году исполняется 30 лет с момента, как созданный при вашем активном участии клуб «Поэзия» юридически перестал существовать. А создан он был в середине восьмидесятых — уже после создания других известных клубов, музыкальных или литературных…
— В самом начале восьмидесятых, насколько я помню, в Москве еще не было никаких литературных «клубов». Литераторы собирались по разным литобъединениям. Самыми сильными из них, похоже, были студия «Луч» при МГУ и несколько поэтических и прозаических семинаров при журнале «Юность». Было несколько «неформальных» групп, но никто, по-моему, не называл себя «клубом» — поэты «лианозовской школы» Холин, Некрасов, Сапгир и другие, группа вокруг поэта и теоретика Монастырского, поэты «Московского времени», журнал «Эпсилон-салон» — братья Александр и Михаил Бараш и Николай Байтов, художники при Комитете графики и концептуалисты, которые собирались в мастерской Ильи Кабакова, и другие. Были поэты и культурологи в семинаре Михаила Эпштейна. Многие метафористы тесно общались с Константином Кедровым… Впрочем, о существовании этих групп я, к сожалению, узнал значительно позже. Я, конечно, слышал о легендарном «Клубе 81» в Питере, но никогда не случилось там побывать. Московский же клуб поэтов создавался через пять лет, во времена Горбачева, в 1986-м, как «неформальное творческое молодежное объединение», которые только что разрешили: это была инициатива «снизу», поэтому мы обошлись без руководителей и покровителей из «конторы». Хотя наверняка кто-то к нам был приставлен.
К этому времени Московское отделение Союза писателей спонсировало несколько семинаров для «молодых», которые вели разные маститые писатели. Порой такие семинары вели очень достойные люди — Анатолий Жигулин, Юрий Левитанский, Яков Аким и другие. Были еще Московские совещания молодых писателей, куда было непросто попасть, — потенциально они могли рекомендовать твои стихи в журнал, а книгу в издательство. Были «квартирники» — неофициальные чтения у кого-нибудь дома. Туда приглашали, понятное дело, только «своих». И еще много различных лито при разных домах культуры — в основном места скучные, созданные, я думаю, для наблюдения и контроля за молодыми дарованиями. Хотя многие там знакомились, ходили компаниями то на один семинар, то на другой, читали друг друга, общались, обсуждали, спорили. Было много замечательных встреч и разговоров, но в целом — тоска, было душно, была некая безысходность, которая уже становилась привычной, превращалась в способ существования: они, официальные, — «там», а мы — «здесь» навсегда. Надежды на перемены, связанные со смертью Брежнева, быстро развеялись, а темное междуцарствие Черненко и Андропова только усилило настроения глухого сопротивления и выживания.
Стихи и книги тех, кто не принадлежал к официозу, не печатали под разными предлогами — например, потому что их авторы не были членами Союза писателей (при этом вступить в союз можно было, лишь выпустив одну-две книги) или стихи были слишком непохожими на то, что проходило цензуру, политическую и эстетическую. Не печатали, не давали выступать, пытались склонить к компромиссам, заставить играть в их игру: напиши «паровоз», говорили редакторы, то есть проходной, идеологически передовой и эстетически выдержанный стишок, и тогда, может быть, мы через год поставим твою подборку.
— В чем был основной смысл вашего клуба?
— Смысл у Московского клуба поэтов, или клуба «Поэзия», как его заставили называться официально, был объявлен один, но каждый трактовал этот смысл по-своему и связывал с клубом свои ожидания.
На рубеже семидесятых-восьмидесятых вдруг стало очевидно, что появилось довольно много интересных поэтов, которые никак не вмещались в рамки официальной литературы. Их отказывались признавать, в любой момент могли начать преследовать за тунеядство (история с Бродским периодически повторялась втихую), за редчайшими исключениями им был закрыт путь в официальные журналы и издательства. То есть появилось то, что потом стали называть «неофициальной литературой». Конечно, замечательные писатели, не входящие в официоз, были и раньше, но тут, видимо, произошел некий количественно-качественный скачок. Мы оглянулись на самих себя и поняли, что нас, непохожих, довольно много. Стало очевидно, что если в одиночку пробиться, не потеряв себя, было неимоверно трудно, почти невозможно, то, возможно, получится сделать это вместе. Предполагалось, что, если заявить себя группой, власти не смогут просто отмахнуться. Поэтому основным планом клуба было заявить о себе, о своем существовании и творчестве, добиться возможности хозрасчетного, кооперативного издательства (модные слова, тогда только входившие в оборот), обойтись без цензуры, организовывать выступления (в том числе платные), продавать свои книжки и так далее. Напомню, только-только началась перестройка, в печати появились первые прежде запрещенные имена, разрешили кооперативы, запахло свободой. На этой волне и был создан клуб. То есть внешне была, можно сказать, чисто социально-экономическая задача. А уж некоторое разделение по эстетическим пристрастиям и просто общение получились сами собой — естественно, в устав они не входили.
— Каким было ваше личное участие в создании клуба?
— Так получилось, что после долгих попыток найти хоть какую-то литературную или журналистскую работу (меня везде отфутболивали или по анкетным данным, или за некоторые конфликты с «конторой») в середине восьмидесятых я устроился работать по договору, внештатником, в относительно известный и относительно прогрессивный журнал «Клуб и художественная самодеятельность». Это был журнал Минкульта и профсоюзов. Нравы там были помягче, собралась в целом очень интересная редакция, иногда пробивались не совсем «правильные», с точки зрения властей, материалы о «неформальных» объединениях при домах культуры, выпускалась — вкладышем — пластиночка с песнями бардов, джазом и так далее. Кое-как, с выговорами и разносами, но это сходило с рук. Однажды нам прислали некий «проект» Минкульта, еще официально нигде не опубликованный, в котором говорилось, что власти собираются разрешить создание неформальных молодежных объединений, как тогда говорили. «Молодняку» — так официоз маркировал неофициальных музыкантов, художников, литераторов, многим из которых было далеко за тридцать, да и за сорок, — ветшающая власть вдруг решила разрешить объединяться, собираться, проводить выступления, даже что-то издавать. Видимо, «наверху» почуяли, что они уже не в силах просто запрещать новые имена, запрещать полуподпольные рок-концерты, новые выставки «говяных», по словам Хрущева, «абстракционистов» и авторов, которые набирали популярность. В конце концов, с момента «Бульдозерной выставки» прошло к тому времени уже больше десяти лет, были выставки в Измайлове, на ВДНХ, которые увидели тысячи людей, правдой и неправдой организованные в библиотеках или НИИ выступления поэтов тоже стали вызывать интерес.

Владимир Друк и Нина Искренко, 1990 г.
© Игорь Голдберг
Итак, в редакцию пришел такой «проект», и я подумал, что этой бумагой не худо бы воспользоваться. Скопировал «проект» и в тот же вечер пришел к своему близкому другу и коллеге Виктору Коркии, благо мы жили в нескольких кварталах друг от друга. Посидели, покурили, помечтали. Случайно кто-то позвонил. И вдруг выяснилось, что один из приятелей приятеля, литератор Леонид Жуков, уже некоторое время пытается создать нечто подобное. Мы связались с Жуковым. Он взялся написать и зарегистрировать устав, потому что из нас в то время никто понятия не имел, как это сделать. Потом мы стали обзванивать всех хороших поэтов, кого знали, рассказывали идею, предлагали собраться. Встретились несколько раз узкой инициативной группой, все обсудили. Провели первое общее «учредительное собрание» в цветущем майском парке на берегу Москвы-реки, и Леонид понес устав по инстанциям. Таким образом, с момента создания я оказался в центре событий, вошел в выбранное правление клуба вместе с Приговым, Искренко, Бунимовичем, Жуковым, Коркией, Арабовым. Игоря Иртеньева выбрали председателем, поскольку он как иронист был равно ироничен ко всем «-измам». Правление принимало в клуб новых литераторов, организовывало чтения, пыталось пробить свой журнал и издательство, отбивалось от придирок властей.
Вопросами устава и дрязгами с отделом культуры занимались в основном Иртеньев и Жуков. И еще Кирилл Ковальджи, член редколлегии «Юности», который, кажется, совершенно добровольно бросался нас то и дело защищать. Впрочем, времена, конечно, уже были вегетарианские. Но случались всякие курьезы. Например, на большом открытии клуба в «Дукате» (был такой ДК в центре Москвы) в октябре 1986 года, когда собралось очень много зрителей — все места и проходы были забиты, и несколько сотен человек не поместилось, — так вот, в конце вечера, когда художники показывали перформанс, лопнула осветительная лампа, то есть была «грубо нарушена пожарная безопасность», и это стало предлогом, чтобы нас вызвали в районный отдел культуры. На самом же деле нас обвиняли в чтении на вечере всякой «антисоветчины»: читалось там разное, но особенно их возмутило, помню, стихотворение Пригова:
Петр Первый как злодей
Своего сыночечка
Посреди России всей
Мучил что есть мочи сам
Тот терпел, терпел, терпел
И в краю березовом
Через двести страшных лет
Павликом Морозовым
Отмстил
Были и внутренние казусы. Случайно, например, узнал, что про Коркию и меня ходили слухи, будто мы — агенты ГБ, которые собирают рукописи — образцы пишущих машинок и передают их в «контору». Помню, мы долго смеялись, хотя это было не смешно, а противно.
— Можно ли считать клуб «Поэзия» андеграундным, неформальным, нонконформистским? Или это было все же полуофициальное (или даже официальное) объединение?
— По бумагам, как я уже сказал, мы были зарегистрированы при каком-то районном отделе культуры. Нас формально опекала милая дама, и было видно, что ей все это довольно трудно и неловко. Тексты, которые мы могли читать публично, должны были быть «залитованы» — знает ли нынешний читатель, что это значит? У меня где-то в архиве лежит копия подборок стихов с синими печатями «разрешено к исполнению» или что-то в этом роде. Этим разрешениям, понятно, никто не следовал, читали что хотели. Но по сути, конечно, клуб был неформальным, и его участники все были в различной степени и с различных сторон оппозиционно настроены к режиму: кто политически, кто этически, кто эстетически. А кто-то просто официоз «в упор не видел» и жил сам по себе. То есть «оппозиционность» была разноцветная, и совсем не она была принципом объединения. Для виду мы заявляли: ах, у вас перестройка, свобода слова, так дайте нам печататься, дайте нам издавать журнал, выпускать книги! Кооперативы-то вы, мол, разрешили! То есть мы твердили им то, что они начали писать в передовицах своих газет. «Великая советская литература» тогда нас в упор не видела, не признавала, практически никто не мог печататься в советских изданиях. Но, кажется, почти все, кто тогда входил в клуб, стали сегодня известными литераторами. А некоторые, как говорят, и классиками при жизни.
— По какому принципу принимали (или не принимали) людей в клуб?
— По очень простому: тех, кто, как писал Борис Пастернак, способен написать «восемь строк о свойствах страсти». То есть отсеивали только отчаянных графоманов. Чтобы вступить в клуб, надо было заручиться согласием большинства членов правления, было право вето. Сначала в клубе были и барды, и художники, и музыканты, но постепенно они стали создавать свои объединения по тому же лекалу. Всего, насколько я помню, через пару лет после открытия в клубе насчитывалось около ста литераторов.

Фестиваль «Неопознанное движение». Волгоград, 1990 г. Слева направо: Михаил Смотров, Нина Искренко, Иван Верховых, Владимир Друк, Виктор Коваль
— До того как появился клуб, вы не печатались? Когда вы решили показать свои стихи публично? И почему не вступали ни в какие объединения?
— Я никогда не был в тусовках, «группах» и вообще по разным причинам, к сожалению или к счастью, был далек от литературной среды. Было несколько близких друзей, была театральная студия, которой руководил замечательный педагог Семен Ривкин, где прошли «мои университеты». Первая публикация случилась на Западе, в журнале «Стрелец», и говорили, что была еще какая-то где-то, но я даже не видел. Более или менее общение началось, когда мои тексты случайно увидел замечательный писатель и человек Андрей Кучаев (может, кто-то помнит его знаменитый рассказ «Мозговая косточка», напечатанный в семидесятые в «Литературке»). Он позвал меня на совещание молодых писателей, сразу на три семинара — поэзии, детской литературы и «сатиры и юмора». Там я и познакомился с Еременко, Парщиковым, Александром Кабаковым, Иртеньевым, Мариной Бородицкой, Мариной Москвиной и другими. Потом была мастерская Левитанского, а затем — студия Ковальджи, где я встретился с великолепной Ниной Искренко (ее потом назвали душой клуба), Бунимовичем, Арабовым, Коркией, Тучковым, Строчковым, Юлией Немировской, Татьяной Нешумовой, Володей Эфроимсоном…
В вечерах же клуба принимали участие поэты «Московского времени», «лианозовцы» — Всеволод Некрасов, Генрих Сапгир, минималисты Иван Ахметьев и Макаров-Кротков, поэты круга журнала «Эпсилон-салон» Александр Бараш и Николай Байтов, метафористы Кутик, Шатуновский, Жданов, Кедров, концептуалисты Кибиров, Рубинштейн, Сухотин, поэты из Киева, Свердловска, Нижнего, Питера, Одессы, Харькова, Ростова, других городов… Так постепенно и образовывался дружеский круг общения.
Я всегда сторонился групп, «-измов», этикеток. Общение и тогда, и сейчас предпочитаю строго индивидуальное, и часто не по общности, а по отличию. Что общего было в стихах у меня и, скажем, у метаметафористов? Ничего. Однако это не мешало нам интенсивно общаться, спорить, быть откровенными и честными в оценках. С тех пор, спасибо судьбе, кроме тех, кого уже упомянул, дружим с Виктором Санчуком, Игорем Левшиным и Игорем Сидом, с Юлием Гуголевым, Александром Левиным, Ефимом Бершиным, Владимиром Салимоном, Игорем Бяльским, Диной Рубиной, Ольгой Ильницкой, Сергеем Седовым… Тут можно привести почти весь список клуба. За все эти годы как-то никто особо не рассорился. Отношения сложились и остались у всех близкие или, по крайней мере, глубоко профессионально-уважительные. В общем, при всей разнице подходов мы, кажется, получали и получаем истинную радость от общения друг с другом — наверное, именно от нашей разности, непохожести.

Владимир Друк в ДК Дукат, 1986 г.
— Клуб «Поэзия» помог вам лично? Как?
— Основной прорыв для всех произошел после вечера в «Дукате», когда нас уже нельзя было продолжать замалчивать. О вечере заговорила вся Москва. Потом были еще несколько громких вечеров в столице, поездки в Одессу, Нижний, Смоленск, Питер. В начале 1988-го в «Юности», в рубрике со смешным названием «Испытательный стенд», появилась взрывная публикация: двенадцать поэтов с фотками и предисловием Ковальджи. Спустя несколько месяцев — публикация следующей поэтической «команды». Тираж у «Юности» тогда был многомиллионный, и мы, как говорят, проснулись знаменитыми.
— Википедия пишет, что вы не только поэт, но еще и специалист по информационной архитектуре. Что это такое?
— Информационная архитектура — сравнительно новая область знаний и практик, связанных с оптимизацией потоков информации. Простой пример — веб-сайт: как он должен быть организован, чтобы пользователи быстро и наиболее эффективно получали нужную информацию? Понятно, тут все несколько сложнее, чем простая рубрикация или структура страниц.
Я окончил в США магистратуру по этой второй своей профессии (моя первая — педагог-психолог) — в отделении интерактивных коммуникаций в Школе кино и телевидения Нью-Йоркского университета. Там пригодились мой опыт в Институте сновидений и виртуальных реальностей (который мы вместе с философом Вадимом Рудневым и другими коллегами создали в девяностые в Москве как первый независимый научный институт) и мой серьезный интерес к появившемуся незадолго до этого интернету. Началось все с веб-сайтов, а потом ситуация сложилась так, что я обнаружил себя работающим в самом логове информационного капитализма — в компании Turner Broadcasting (это она делает CNN, CNNMoney и тому подобные каналы), в офисе, выходящем окнами в Центральный парк…
— Пишут, что вы еще и изобретатель!
— Да, у меня американский патент «Метод и аппарат для измерения субъективного времени». Тут забавная история: в NYU я рассказал на одном семинаре профессору о давней идее, как измерять субъективное ощущение времени и почему это может быть полезно. После семинара он пригласил меня в кафе, и мы просидели там до вечера. Он сказал: ты понимаешь, что придумал? Я пожал плечами: ну вроде да. Он говорит: все бросай, немедленно подавай на патент, станешь миллионером. Я стал писать заявку; это довольно сложный процесс из-за особого языка, на котором они пишутся. Короче, подал заявку и, к своему полному ошеломлению, получил патент. Да еще и в неслыханно короткие сроки — за полтора года, когда обычно на это уходило четыре-пять лет. Но не было прецедентов, как мне объяснили. В общем, патент я получил, а вот стать миллионером не вышло.
Любой патент надо, как оказалось, окучивать и «раскручивать», на это нужны время и немалые деньги. В какой-то момент я перестал платить годовые взносы за его поддержку, и патент перешел в общий доступ. Недавно заглянул в записи Патентного бюро — на мою работу ссылаются и Sony, и AT&T, и еще какая-то японская фирма. Жду, что вот-вот появятся желающие изготовить такие «субъективные часы», которые измеряют, насколько человек увлечен жизнью и счастлив. При нынешних технологиях это сделать совсем нетрудно. А у меня наготове второй патент в том же направлении: я придумал, как человек может сам сознательно ускорять или замедлять свое время. Жду тех, кого это заинтересует, инвесторов, спонсоров, а пока суд да дело, занимаюсь своими литературными проектами.
— Ваши стихи можно условно разделить на три части. Первая — ранние опыты. Вторая — «на злобу дня» (беру в кавычки, потому что более правильно их, наверное, называть актуальной поэзией). Третья — экспериментальные. Какая из этих трех частей вам наиболее близка?
— Ранние опыты действительно были, только их почти никто не видел. Частично они утеряны, частично уничтожены. Я давно заметил, что у нашего поколения, похоже, не было первых книг. Когда мы начинали, не было такой возможности, чтобы ты написал пару десятков стихов и смог их опубликовать первой книжечкой, хоть и маленьким тиражом, как это легко сделать сейчас. Нет, многие годы все писали без надежды на публикацию, что было, конечно, очень нездорово, но тут нет худа без добра: это позволило вещам отстояться, оставалось лучшее.
В мою первую книгу «Коммутатор» вместились где-то четыре книги, хотя я очень старался, чтобы получилась единая книга, цельная. Там есть и более ранние вещи — совсем наивно-лирические, псевдодетские, те, которые можно с некоторым приближением назвать обэриутскими (хотя я об ОБЭРИУ узнал довольно поздно, к своему стыду, уже когда в основном все эти вещи были написаны). Есть там и то, что вы назвали актуальной поэзией, и то, что, вероятно, вы имеете в виду под экспериментальными текстами. Надо заметить, что некая экспериментальная составляющая для меня важна в любой вещи — просто каждый новый текст должен, по-моему, в идеале быть новым по «форме и содержанию». Я знаю прекрасных поэтов, которые много лет остаются верны более-менее одному способу письма. Это их естественная форма высказывания, медитации, канал соединения с Всевышней Поэтической Энергией. Я — другой, у меня все время получаются разный угол зрения, разная форма, разные способы видения и порождения смыслов, разные ритмические структуры, разные системы координат и точек наблюдения. Это уже, видно, мой природный, естественный для меня тип разговора буквами и звуками.
То, что получается в последнее время, — например, не так давно написанный словарь «АЛЕФ-БЕТ» и другие недавние вещи — вообще пока непонятно на что похоже, не укладывается в определение, прежде всего, для меня. Может, критики помогут разобраться. Так что, наверное, вашу классификацию можно подкорректировать.
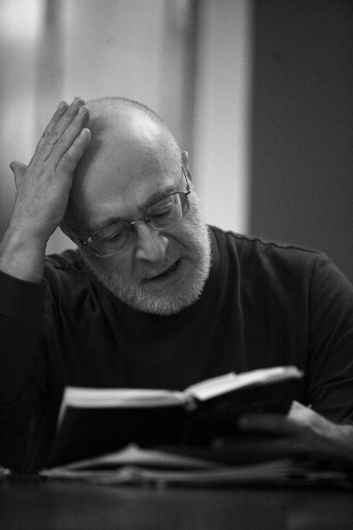
© Светлана Богданова
— На кого вы опираетесь в поэтических экспериментах? Можете ли вы назвать своих учителей, предшественников — тех, кто повлиял на вас сильнее всех?
— Легче вопроса не придумаешь, поскольку учился я у всех поэтов, не шучу: от Александра Сергеевича до Тютчева и Фета, от Маяковского до Блока, от Пастернака до Мандельштама, от Высоцкого и Левитанского до Всеволода Некрасова, Генриха Сапгира и Геннадия Айги. Это если говорить только о русской классической литературе. Мне интересны любая ясная, особым образом построенная поэтическая вселенная, космосы взглядов, смыслов, техники. Упоительно! Я, наверное, как говорили, совершенно «партийно беспринципен и неустойчив», всеяден и люблю любую литературу, но только хорошую. От плохой просто заболеваю физически.
— Скоро, насколько я знаю, у вас должна выйти новая книга — упомянутый вами поэтический цикл «АЛЕФ-БЕТ». Это тексты, написанные на каждую букву ивритского алфавита и содержащие отсылки к каббале. Вы специально изучали каббалу? Может быть, вы — каббалист?
— Нет-нет, я категорически не каббалист. «Настоящий каббалист» — это Мадонна. А если серьезно: жили на свете великие Мастера, да и сегодня есть потрясающие знатоки и мудрецы Учения, они обычно предельно скромны, а многие практически неизвестны, как в старину скрытые цадики — нистарим. Но, к сожалению, как и везде, есть много знатоков в кавычках, которые и амулеты продают, и гадают, и штампуют популярные книженции. «АЛЕФ-БЕТ» — это не популярная и не каббалистическая книга, это попытка — вполне, кстати, традиционная для иудаизма — создать поэтическую версию древнейшего мистического алфавита, передать на русском языке хотя бы некоторые отголоски богатейших традиций его толкования, его загадок, его «форм, чисел и номинаций», его многомерного пространства образов и смыслов. Здесь я, похоже, двигался и в русле отечественной литературной традиции, вдохновленный опытами Велимира Хлебникова, который, как известно, пытался понять скрытый смысл букв кириллицы. И многое, замечу, гениально разгадал и увидел.
— Смогут ли воспринимать этот цикл те, кто незнаком с каббалой?
— Книга эта не для всех. Кого-то она наверняка оставит равнодушным, это нормально. Другим она, надеюсь, будет интересна. Я заметил, например, что некоторые находят в тексте свои «заветные», любимые буквы-главки. А есть те, кто воспринимает весь текст целиком. Конечно, если есть знакомство с иудаистской традицией, будут видны дополнительные слои смыслов, но это совершенно не обязательно.
— А вообще, как вы считаете, каким багажом, «бэкграундом» нужно обладать, чтобы воспринимать поэзию? И нужно ли (или можно) читать стихи «с чистого листа»?
— Поэтическое образование в школах у нас, к сожалению, ужасное. Поэтому человек начинает читать, понимать и чувствовать поэтическое слово, если рядом с ним вовремя оказывается кто-то, кто помогает на первых порах, — родители, старшие братья или сестры, друзья, увлеченные подвижники. Если их нет, то в лучшем случае читатель с трудом понимает первый план — слова, вернее, столбики слов, написанных в рифму. И считает это поэзией. Тут явно досадное недоразумение. Но, вы знаете, у меня были случаи, когда я читал в совершенно «непоэтических» аудиториях — рабочим на заводе, сиротам, заключенным, несколько раз читал американцам и немцам по-русски, без перевода (так получилось), и необъяснимо это были одни из лучших моих выступлений. Кроме поэтического образования, видимо, более важно, чтобы у человека оставался открытым «третий», поэтический, глаз, чтобы слух не был забит всяким искусственным шумом, чтобы сердечко колотилось. В иудаизме, кстати, это называется «раненое сердце».